Колебания - [110]
Хуже всего было то, что медленно на смену робкой надежде приходила гнетущая уверенность в том, что Яна, если и может сама догадаться о чём-то — но совершенно точно первой не произнесёт ни слова. Её невероятное, неправдоподобное умение молчать, молчать целую жизнь, стало уже казаться Лизе настоящим сумасшествием; это пугало, и даже от злости постепенно оставались лишь страх и абсолютное непонимание. За один день они стали далеки друг от друга как две галактики — и с каждой секундой тишины расстояние между ними увеличивалось, и они разлетались.
Машинальным движением Лиза, стараясь отвлечься, взяла телефон и стала листать новостную ленту, почти и не замечая постов. Что-то, однако, вдруг привлекло её внимание…
Ежегодная рубрика «Помогите всем миром, кто сколько сможет! Спасём лавку!» Длинный жалобный пост увещевал и упрашивал пожертвовать денег или хотя бы помочь репостом — известной на весь Университет книжной лавке, обитающей в их корпусе и легендарной уже, год от года грозило закрытие и банкротство. И каждый год всё обходилось.
«О, убожество!..» — думала Лиза, хотя и сама не раз покупала книжки в той лавке — маленьком закутке между двумя поточными аудиториями, комнатушке с удивительно узким входом и низким потолком, буквально набитой книжками, торчащими из шкафов и с полок… сложенными под крошечным столом с кассой… нагромождёнными неровными, высокими и низкими стопками на большом широком столе вне комнатушки, в коридоре первого этажа, рядом с одним из буфетов…. Кто-нибудь да всегда рассматривал эти книжки, прохаживался задумчиво мимо длинного стола, обходил вокруг, как будто что-то сосредоточенно высчитывая, вспоминая, прикидывая — а не купить ли «Заметки о петушиных боях у балийцев?» Звучит интересно. Хотя нет, зачем… Ну, конечно же, нет… А, может быть, «Текстологию Древней Руси»?.. Или «10 веков русской поэзии?» Всегда же, вроде, хотел: системно. Наглядно. Но, впрочем… Хотя всё же — удивтельно низкая цена… Но… А вон, гляди, девушка покупает что-то… Ну да я потом.
Так же вот и Лиза ведь обходила, прохаживалась, покупала, рассматривала — и всё-таки, как убого! Как жалко и убого смотрится этот пост. Ну почему, почему это всё — вот так?..
«Но подождите… — Лиза листала уже стену самого сообщества. — А это что?..» Короткий текст, первый же пост на стене попался ей на глаза — и он вовсе не был о сборе денег, он был… О, нет, правда…
«У нас в Лавке завелась 25-сантиметровая змея, — прочитала Лиза. — Скорее всего, медянка.
Поместили её в пластиковую бутыль — а тараканов и не видать. Да и травят их, — может, ядовитые они для корма. Посоветуйте кто-нибудь, чем следует кормить мелкую змею? И, возможно, кто-нибудь слышал о пропаже животного в старом гуме?
На биофак зверя нести не хочется: вдруг скормят более крупному едоку».
Ощутив твёрдый комок в горле и близко уже подступившие слёзы — обыкновенная реакция на нескончаемый абсурд окружающей действительности — Лиза резко заблокировала телефон и кинула его в сумку.
— Добрый день! — прозвучало вдруг у неё над самым ухом, и она вздрогнула: радостный, полный любви к жизни мягкий голос. Лиза подняла глаза. Перед ней стоял Холмиков. Он смотрел на неё и улыбался — как и всегда, как и миллион раз до того случалось при их встречах в бесконечных коридорах Старого гуманитарного корпуса, и его улыбка по обыкновению освещала всё вокруг. Всё могло бы произойти в безумном мире: война, эпидемия неизлечимого заболевания, голод, потоп — но вежливость, приветливость и самообладание Холмикова остались бы неизменными. Он, незаметно подложивший ей в сумку книгу будто обиженная девочка, он, встретившийся с ней после, даже и согласившийся на это не сразу, он, ничуть не изменившись в лице, не поспешил пройти мимо, не свернул на ближайшую лестницу — он подошёл и поздоровался, точно так же, как и всегда.
— Что с вами случилось, Лиза? Не поймите меня неправильно, — бледность вам весьма идёт, — но вы выглядите уставшей. Середина года, я понимаю, но ведь скоро вы и отдохнуть сможете, — произнёс Холмиков, не дождавшись от Лизы ответа и заметив, как она лишь испуганно и как-то странно взглянула на него.
Сказав это, он посмотрел на неё уже испытующе, оценивающе — словно прикидывая, что это с ней могло случиться. Неизменно всю жизнь Холмиков ощущал на своих плечах тяжесть особенной миссии — жить с удовольствием. Это была вроде как его обязанность перед самим собой и перед миром — за всех тех, кто лишал себя сна, кто страдал и мучился, кто умирал на войне; мир предоставил ему, Холмикову, уникальную возможность жить хорошо, жить радостно, — и не использовать её было бы непростительно, было бы кощунством. Целое искусство обнаруживалось в том, чтобы каждый день делать приятным, чтобы всегда в первую очередь думать о собственном самочувствии и настроении. Необходимо было любить себя больше, чем привыкли остальные, слушать голос мельчайших желаний и находить время на их удовлетворение, а также умело использовать всё накопленное довольство жизнью в те моменты, когда от неприятной необходимости выполнения чего-либо невозможно было уклониться. Холмиков трудился тяжело каждый день, и старания его вознаграждались. А, сияя, он уже как бы непроизвольно стремился этим сиянием согреть и других; он не думал много о людях — но хотел бы, чтобы и все научились относиться к себе и жизни так же, как он; чем больше он чувствовал радость и полноту бытия, тем чаще шутливые, напутственные слова слышали от него студенты, к которым он никогда не чувствовал злости или презрения; к некоторым, кажущимся ему особенно странными, Холмиков мог испытывать, удивляясь им, лишь добродушное снисхождение — беззлобное, лишённое ядовитости или удовольствия занизить оценку; он мог весело подшучивать над ними, а в глубине души, с некоторой неприязнью к ним, всё же чувствуя своё превосходство, жалеть, что они не умеют и не хотят жить приятно и радостно, как он. Излишнего сострадания и сентиментальности в нём не было никогда, но и озлобленность на тех, кто ничего плохого ему не сделал, так же не была свойственна его душе, ежедневно трудящейся над тем, чтобы не испытывать боли.

Проснувшись рано утром Том Андерс осознал, что его жизнь – это всего-лишь иллюзия. Вокруг пустые, незнакомые лица, а грань между сном и реальностью окончательно размыта. Он пытается вспомнить самого себя, старается найти дорогу домой, но все сильнее проваливается в пучину безысходности и абсурда.
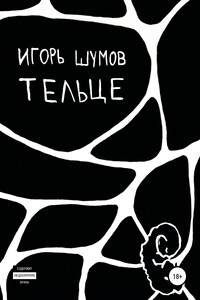
Творится мир, что-то двигается. «Тельце» – это мистический бытовой гиперреализм, возможность взглянуть на свою жизнь через извращенный болью и любопытством взгляд. Но разве не прекрасно было бы иногда увидеть молодых, сильных, да пусть даже и больных людей, которые сами берут судьбу в свои руки – и пусть дальше выйдет так, как они сделают. Содержит нецензурную брань.

Первая часть из серии "Упадальщики". Большое сюрреалистическое приключение главной героини подано в гротескной форме, однако не лишено подлинного драматизма. История начинается с трагического периода, когда Ромуальде пришлось распрощаться с собственными иллюзиями. В это же время она потеряла единственного дорогого ей человека. «За каждым чудом может скрываться чья-то любовь», – говорил её отец. Познавшей чудо Ромуальде предстояло найти любовь. Содержит нецензурную брань.

Книга – крик. Книга – пощёчина. Книга – камень, разбивающий розовые очки, ударяющий по больному месту: «Открой глаза и признай себя маленькой деталью механического города. Взгляни на тех, кто проживает во дне офисного сурка. Прочувствуй страх и сомнения, сковывающие крепкими цепями. Попробуй дать честный ответ самому себе: какую роль ты играешь в этом непробиваемом мире?» Содержит нецензурную брань.

К Пашке Стрельнову повадился за добычей волк, по всему видать — щенок его дворовой собаки-полуволчицы. Пришлось выходить на охоту за ним…

Автобиографическую эпопею мастера нон-фикшн Александра Гениса (“Обратный адрес”, “Камасутра книжника”, “Картинки с выставки”, “Гость”) продолжает том кулинарной прозы. Один из основателей этого жанра пишет о еде с той же страстью, юмором и любовью, что о странах, книгах и людях. “Конечно, русское застолье предпочитает то, что льется, но не ограничивается им. Невиданный репертуар закусок и неслыханный запас супов делает кухню России не беднее ее словесности. Беда в том, что обе плохо переводятся. Чаще всего у иностранцев получается «Княгиня Гришка» – так Ильф и Петров прозвали голливудские фильмы из русской истории” (Александр Генис).