Кольца Сатурна. Английское паломничество - [42]
Вечером накануне моего отъезда мы с Эдмундом стояли на террасе, прислонившись к каменной балюстраде. Было так тихо, что мне казалось, будто я слышу крики сновавших в воздухе летучих мышей. Парк погрузился во тьму, когда Эдмунд после долгого молчания вдруг произнес: «I have set up the projector in the library. Mother was wondering whether you might want to see what things used to be like here»[65]. В библиотечной комнате миссис Ашбери уже ждала, когда начнется сеанс. Я занял место рядом с ней под балдахином из бумажных пакетиков, свет погас, аппарат застрекотал, и на голой стене над каминной полкой появились безмолвные картины прошлого. Иногда они почти неподвижно застывали в стоп-кадрах, иногда сменялись рывками, иногда смазывались из-за скорости или густой ретуши. Это были сплошь натурные съемки. Из окна на верхнем этаже снимали пейзаж на среднем плане, купы деревьев, поля и луга. И напротив, въезжая из парка во двор усадьбы, снимали фасад дома, который сначала казался игрушечным, а потом становился все выше и в конце концов чуть ли не вываливался из рамки. На снимках — ни малейшего следа заброшенности. Подъездные дорожки посыпаны песком. Живые изгороди подстрижены. Грядки в огороде выполоты. Хозяйственные постройки (за это время развалившиеся) еще в полной сохранности. На более поздних снимках Ашбери в светлый летний день сидят за чаем в чем-то вроде открытой палатки. День был такой чудесный, комментировала миссис Ашбери, мы праздновали крестины Эдмунда. Кларисса и Кристина играют в бадминтон. Вот Кэтрин держит на руках черного шотландского терьера. А вон там, на заднем плане, старый дворецкий несет ко входу тяжелый поднос. Вон горничная в чепце стоит у двери, прикрывая ладонью глаза от солнца. Эдмунд поставил новую бобину. Последовали кадры, снятые в садах и на полевых работах. Помню худенького мальчика, катившего огромную старомодную тачку. Помню косилку, которую тянет маленькая лошадка. Возница ростом с карлика направляет косилку туда-сюда, проводя по газону безупречно ровные линии. Помню темную теплицу, где растут огурцы, и залитое светом, почти белоснежное поле, где десятки жнецов срезают колосья и вяжут снопы. Когда закончилась последняя пленка, в библиотеке, освещенной теперь лишь слабым светом из прихожей, воцарилась долгая тишина. Эдмунд уложил проектор в футляр и покинул комнату. И только после этого миссис Ашбери разговорилась. Она рассказала, что вышла замуж в 1946 году, сразу после отставки мужа. Несколько месяцев спустя, после скоропостижной смерти свекра, они уехали в Ирландию (хотя вовсе не так представляли себе свою будущую жизнь), поскольку им предстояло вступить во владение имением, которое тогда практически невозможно было продать. В то время, сказала миссис Ашбери, я не имела ни малейшего понятия об ирландских условиях жизни. Я и сегодня чувствую себя здесь чужой. Помню, что в первую ночь я и сам проснулся в этом доме с таким чувством, словно я не от мира сего. Лунный свет из окна так странно падал на слой стеарина (капающий со свечей стеарин за сто с лишним лет покрыл весь пол), что мне показалось, будто я витаю над каким-то ртутным озером. Мой муж, сказала миссис Ашбери, принципиально никогда не высказывался на предмет жизни в Ирландии, хотя во время гражданской войны он насмотрелся ужасов. А может быть, именно поэтому. На мои вопросы он давал такие скупые ответы, что я только постепенно сопоставила кое-какие факты из истории его рода и истории землевладельческого класса, безнадежно обедневшего за несколько десятилетий после гражданской войны. Но общая картина, которую я сумела таким образом составить, оставалась схематичной. Кроме моего весьма сдержанного мужа, сказала миссис Ашбери, источниками информации об ирландских обстоятельствах (частью смешных, частью трагичных) были легенды, возникшие в ходе медленной деградации наших слуг, которых мы унаследовали вместе со всей прочей обстановкой и которые, так сказать, сами уже принадлежали истории. Так, например, только спустя много лет после переезда сюда я узнала от нашего дворецкого Куинси кое-что о страшной ночи, когда подожгли дом Рандольфов (милях в шести от нашего поместья). Было это летом 1920 года. Рандольфы как раз ужинали с родителями моего будущего мужа. Мятежные республиканцы, по словам Куинси, для начала собрали в вестибюле всех слуг и без обиняков заявили, что дают им час. Пусть соберут свои пожитки да приготовят чай себе и борцам за свободу. После чего будет разожжен большой пожар расплаты. Первым делом, сказала миссис Ашбери, нужно было разбудить детей и переловить всех собак и кошек, совершенно сбитых с толку предчувствием беды. Потом, согласно описанию Куинси, который в то время был камердинером полковника Рандольфа, все обитатели дома стояли на газоне среди багажа, разных предметов меблировки и прочих бессмысленных вещей, которые в спешке хватают люди, не помня себя от страха. Куинси рассказал, что в последний момент ему пришлось еще раз взбежать на третий этаж, чтобы спасти какаду старой миссис Рандольф, которая, как выяснилось на следующий день, из-за этой катастрофы полностью лишилась до тех пор вполне здравого рассудка. Все беспомощно смотрели, как республиканцы выкатили из автомобильного сарая большую цистерну бензина, прокатили ее по двору, с громким «Heave ho!»

Роман В. Г. Зебальда (1944–2001) «Аустерлиц» литературная критика ставит в один ряд с прозой Набокова и Пруста, увидев в его главном герое черты «нового искателя утраченного времени»….Жак Аустерлиц, посвятивший свою жизнь изучению устройства крепостей, дворцов и замков, вдруг осознает, что ничего не знает о своей личной истории, кроме того, что в 1941 году его, пятилетнего мальчика, вывезли в Англию… И вот, спустя десятилетия, он мечется по Европе, сидит в архивах и библиотеках, по крупицам возводя внутри себя собственный «музей потерянных вещей», «личную историю катастроф»…Газета «Нью-Йорк Таймс», открыв романом Зебальда «Аустерлиц» список из десяти лучших книг 2001 года, назвала его «первым великим романом XXI века».
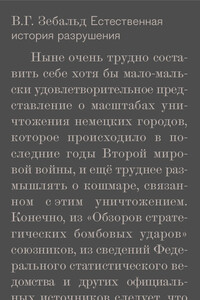
В «Естественной истории разрушения» великий немецкий писатель В. Г. Зебальд исследует способность культуры противостоять исторической катастрофе. Герои эссе Зебальда – философ Жан Амери, выживший в концлагере, литератор Альфред Андерш, сумевший приспособиться к нацистскому режиму, писатель и художник Петер Вайс, посвятивший свою работу насилию и забвению, и вся немецкая литература, ставшая во время Второй мировой войны жертвой бомбардировок британской авиации не в меньшей степени, чем сами немецкие города и их жители.
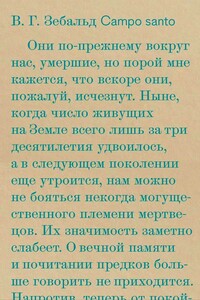
«Campo santo», посмертный сборник В.Г. Зебальда, объединяет все, что не вошло в другие книги писателя, – фрагменты прозы о Корсике, газетные заметки, тексты выступлений, ранние редакции знаменитых эссе. Их общие темы – устройство памяти и забвения, наши личные отношения с прошлым поверх «больших» исторических нарративов и способы сопротивления небытию, которые предоставляет человеку культура.

В.Г. Зебальд (1944–2001) – немецкий писатель, поэт и историк литературы, преподаватель Университета Восточной Англии, автор четырех романов и нескольких сборников эссе. Роман «Головокружения» вышел в 1990 году.

Можно ли выжить в каменных джунглях без автомата в руках? Марк решает, что нельзя. Ему нужно оружие против этого тоскливого серого города…

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

История детства девочки Маши, родившейся в России на стыке 80—90-х годов ХХ века, – это собирательный образ тех, чей «нежный возраст» пришелся на «лихие 90-е». Маленькая Маша – это «чистый лист» сознания. И на нем весьма непростая жизнь взрослых пишет свои «письмена», формируя Машины представления о Жизни, Времени, Стране, Истории, Любви, Боге.

Вызвать восхищение того, кем восхищаешься сам – глубинное желание каждого из нас. Это может определить всю твою последующую жизнь. Так происходит с 18-летней первокурсницей Грир Кадецки. Ее замечает знаменитая феминистка Фэйт Фрэнк – ей 63, она мудра, уверена в себе и уже прожила большую жизнь. Она видит в Грир нечто многообещающее, приглашает ее на работу, становится ее наставницей. Но со временем роли лидера и ведомой меняются…«Женские убеждения» – межпоколенческий роман о главенстве и амбициях, об эго, жертвенности и любви, о том, каково это – искать свой путь, поддержку и внутреннюю уверенность, как наполнить свою жизнь смыслом.

Маленький датский Нюкёпинг, знаменитый разве что своей сахарной свеклой и обилием грачей — городок, где когда-то «заблудилась» Вторая мировая война, последствия которой датско-немецкая семья испытывает на себе вплоть до 1970-х… Вероятно, у многих из нас — и читателей, и писателей — не раз возникало желание высказать всё, что накопилось в душе по отношению к малой родине, городу своего детства. И автор этой книги высказался — так, что равнодушных в его родном Нюкёпинге не осталось, волна возмущения прокатилась по городу.Кнуд Ромер (р.

Какова природа удовольствия? Стоит ли поддаваться страсти? Грешно ли наслаждаться пороком, и что есть добро, если все захватывающие и увлекательные вещи проходят по разряду зла? В исповеди «О моем падении» (1939) Марсель Жуандо размышлял о любви, которую общество считает предосудительной. Тогда он называл себя «грешником», но вскоре его взгляд на то, что приносит наслаждение, изменился. «Для меня зачастую нет разницы между людьми и деревьями. Нежнее, чем к фруктам, свисающим с ветвей, я отношусь лишь к тем, что раскачиваются над моим Желанием».