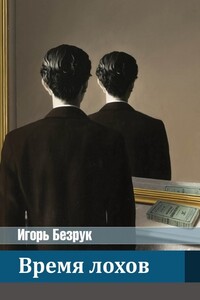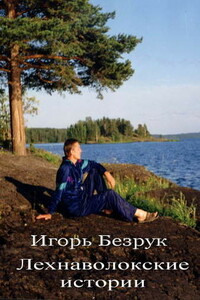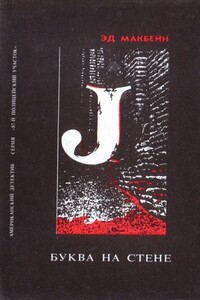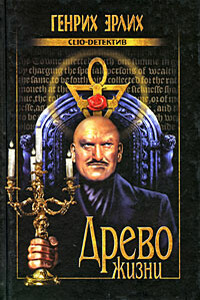Но почему Скудынь не увидел? Почему он ничего не увидел? Лес, речку, поляну, залитую солнцем, видел только он и только он слышал отчетливые звуки?
А если это же увидели и Еремеев, и Дубовицкая, и Пряхин? Почему они увидели? Почему им открылась эта чарующая красота? Может, оттого, что все они разочаровались в этой жизни, стали никому не нужными?
А он? У него вроде всё нормально. Хотя он сам чувствует, как ему тяжело. Вчера он крепко повздорил с женой и, в сущности, — из-за пустяка. Плохо спал ночь, ворочался, просыпался, вставал курить…
И этот сон. Он плясал, как тот ухарь на калейдоскопе, а утром почувствовал себя на пределе и, как всегда при накатывающихся неприятностях, стал жалеть о своем скверном характере, о своей неуживчивости. Вдобавок ко всему — Маралов…
Не ошибаюсь ли я? — подумал Михайлов. Может, я так устал, что начинаю бредить, галлюцинировать?
Но если даже и так, я не могу ежеминутно впадать в такое состояние. Значит, если мне сейчас посмотреть в калейдоскоп, я увижу то же, что увидел Скудынь: разноцветные стекляшки, рассыпающиеся в разные узоры, и не иначе? Да и я не настолько глуп, чтобы поверить в нереальное, и не настолько боязлив, чтобы не взглянуть еще раз!
Михайлов положил дипломат себе на колени, раскрыл его, достал оттуда калейдоскоп, но так и не решался сразу поднести его к глазу.
«И всё же, — подумал он, — чего я так боюсь?»
Вопрос остался без ответа.
И вот опять Михайлов отваживается заглянуть вовнутрь, и снова, как в первый раз, всё закружилось, всё слилось, вырвав из неоткуда сначала светлое пятно, потом лирический пейзаж, но это была уже другая картина, хотя так же отчетливо различались звуки. И в этот раз на Михайлов накатила какая-то радость, какое-то непонятное чувство блаженства, прежде не испытанное им.
Он вдруг ощутил себя стоящим на возвышении и неторопливо осматривающим окрестности, восторгаясь при этом всякий раз увиденным.
И вдруг Михайлов воспарил. Открытая местность сменилась каким-то фантастическим пейзажем, который даже отдаленно не мог напоминать земной. Кто-то взял Михайлова за руку и стал увлекать за собой. Михайлов не воспротивился, да и не мог он воспротивится: такой легкости, такой свободы, такой открытости и доверия, такой приподнятости духа он не ощущал ни разу в жизни.
С каждой последующей минутой он находил себя всё более счастливым, всё более восторженным. Это было непередаваемо…
— Леночка, Лена! — громко позвала свою трехлетнюю дочь молодая женщина в сером твидовом костюме. — Иди сюда!
Малышку удержать невозможно. Она такая бойкая, такая резвая. Стоит отпустить её руку — и бежит сломя голову куда глаза глядят. Вот и сейчас, стоило ей зазеваться, Лена, семеня пухлыми, в теплых штанишках ножками уже вырвалась вперед метров на десять, заставив её разволноваться.
— Иди сюда, Лена! — громко и вместе с тем твердо произнесла женщина, не делая даже попытки догнать маленькую шалунью. Но Лена и сама остановилась напротив одной из скамеек, где сидел, как-то странно потупившись, какой-то мужчина. На коленях его лежал дипломат, поверх дипломата — сложенные вместе руки.
Женщина приблизилась к дочери, которая не отводила взгляда от странного мужчины, и тоже посмотрела на него. Глаза того смотрели неестественно, куда-то мимо нее, будто в никуда.
— О, Боже! — произнесла испуганно она и, взяв девочку за руку, потянула за собой.
— Дяденька спит, да, мама, спит?
— Спит, Леночка, спит.
— А почему у него глаза открыты? — все оборачивается маленькая девочка назад.
— Он так спит — с открытыми глазами.
— С открытыми глазами? Чудной!
Через пятнадцать минут оперативная группа прибыла на место. Тело Михайлова так и оставалось неподвижным. При беглом осмотре никаких признаков насильственной смерти своего коллеги они не обнаружили. Опавшая безжизненно на расслабленное бедро левая рука, вольно ниспадающая со скамьи правая, да застывшее на лице выражение неземного блаженства ничего не сказали им.
На закатившийся под скамью обыкновенный калейдоскоп тоже никто не обратил внимания…