Искренность после коммунизма. Культурная история - [49]
Упор на искренности как теоретической проблеме и осторожный подход к иронии — черты, которые объединяют Пригова со многими западными писателями-постмодернистами[429]. Однако по сравнению со своими коллегами Пригов зашел особенно далеко в деле внедрения неиронической установки в сознание читателей. С начала 1970‐х годов он постоянно настаивал на том, что ему чужда ирония и что такие понятия, как искренность и любовь, играют центральную роль в его творчестве[430]. В предисловии к сборнику стихов, датированных 1971–1974 годами, художник провозгласил — в своей обычной густой и плотной стилистике, — что в стихах ему «хочется избежать опасности сугубо горизонтального среза времени, который порождает… чистую иронию… Нужен вертикальный, честно взятый и прослеженный и искренне воспринятый срез времени от вершков до корней». Вместо того чтобы принимать иронию как художественную стратегию, он — уверял читателей Пригов — «предельно серьезен» в своем отношении к жизни, которую рассматривает как что угодно, но только не как «предмет для юмора»[431].
Читатели, принявшие приговские заявления о намерениях за чистую монету, упускают главное: у Пригова искренность и ирония никогда не бывают неотрефлексированными категориями. Как начитанный позднесоветский интеллектуал, Пригов, безусловно, был знаком с трудами таких кумиров искреннего самовыражения, как Блаженный Августин и Жан-Жак Руссо, но он ни в коем случае не являлся их прямым наследником. Не случайно в разговоре с Гандлевским в 1993 году он заявил: «Я не пишу стихов ни исповедального, ни личного плана, и у меня нет личного языка»[432]. В поздние годы Пригов все же пробовал писать «личные стихи»[433]. Однако даже его представления о личных стихах, характерные для этого времени, не следует смешивать с классической лирикой, в которой поэт раскрывает свой внутренний мир. В одном интервью Пригов прибег к постмодернистскому тезису о том, что искренность — не более чем культурный конструкт, заявляя, что «у искренности есть два модуса: один как действительно социокультурно сконструированный и второй — некое неартикулируемое уже начало… модус, которого я касаюсь и который я испытываю и критикую, он культурный»[434].
Иначе говоря, непосредственное самовыражение никогда не было главной целью Пригова. Однако в то же время он определял свою «мерцательную стратегию» как попытку перейти от культурного модуса к другому началу, более «общечеловеческому или доартикуляционному» типу самораскрытия: в интервью он говорил о том, что «если его <культурный модус искренности> точно проследить, он вызывает ту же реакцию искренности… Действительно, в какой-то момент я искренне впадаю в этот дискурс. Проблема не в том, чтобы обмануть читателя, чтобы он так себя вел. Проблема в том, что ты должен сам быть невменяемым в этом отношении»[435].
Далеко не спонтанная (но и отнюдь не насмешливая) форма искренности, которую описывает здесь Пригов, была центром его художественного проекта — и это понятие c железной настойчивостью появляется в его поэтических и (псевдо) — теоретических сочинениях. «Но ведь так хочется искренности!» — восклицал он, почти невольно, в одном из предуведомлений[436].
Размышляя о столь желанной искренности, Пригов был столько же человеком своего времени, сколь и частью исторической традиции. В первой главе мы видели, что совершенно не заслуживающие доверия персонажи Достоевского постоянно мечтали об искренности, которой им ощутимо недостает. Вспомним, как Петр Верховенский без конца повторяет, что он «серьезно» и «искренно» хочет добра. Пригов вторит желанию Верховенского, когда представляет искренность как то, чего поэт никогда не может достичь и именно потому всегда страстно желает. Однако приговский проект искренности восходит не только к Достоевскому, но и к более ранним источникам.
В предыдущей главе мы видели, что еще со времен раннего модернизма в разных странах было принято приписывать искренность и лицемерие противоположным политическим группам, чей взаимный антагонизм хотел подчеркнуть говорящий. Вспомним английский кальвинизм, связывавший искренность с политической оппозицией; французских революционеров конца XVIII века, постоянно приписывавших искренность «простолюдинам», а лицемерие — придворным; а также русский роман XIX века, в котором простодушная искренность оказывалась народной чертой, скрытность — чертой государственной власти. Или вспомним постоянно возникавшие у модернистов ассоциации между моральной испорченностью и городскими высшими классами и их столь же устойчивое убеждение, что искренность связана с бедностью и географической периферией. Ниже я покажу, как в двусмысленной и часто откровенно игровой манере Пригов возрождает эту старую традицию приписывать искренность определенным социокультурным стратам. Похоже, он сам хорошо это осознавал: едва ли можно считать совпадением то, что при обсуждении трудностей концептуализации искренности в век политических катаклизмов он вспоминал Максимилиана Робеспьера, которого можно назвать интеллектуальным отцом Французской революции

«История феодальных государств домогольской Индии и, в частности, Делийского султаната не исследовалась специально в советской востоковедной науке. Настоящая работа не претендует на исследование всех аспектов истории Делийского султаната XIII–XIV вв. В ней лишь делается попытка систематизации и анализа данных доступных… источников, проливающих свет на некоторые общие вопросы экономической, социальной и политической истории султаната, в частности на развитие форм собственности, положения крестьянства…» — из предисловия к книге.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

На основе многочисленных первоисточников исследованы общественно-политические, социально-экономические и культурные отношения горного края Армении — Сюника в эпоху развитого феодализма. Показана освободительная борьба закавказских народов в период нашествий турок-сельджуков, монголов и других восточных завоевателей. Введены в научный оборот новые письменные источники, в частности, лапидарные надписи, обнаруженные автором при раскопках усыпальницы сюникских правителей — монастыря Ваанаванк. Предназначена для историков-медиевистов, а также для широкого круга читателей.
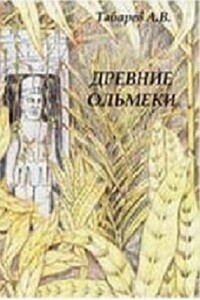
В книге рассказывается об истории открытия и исследованиях одной из самых древних и загадочных культур доколумбовой Мезоамерики — ольмекской культуры. Дается характеристика наиболее крупных ольмекских центров (Сан-Лоренсо, Ла-Венты, Трес-Сапотес), рассматриваются проблемы интерпретации ольмекского искусства и религиозной системы. Автор — Табарев Андрей Владимирович — доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН. Основная сфера интересов — культуры каменного века тихоокеанского бассейна и доколумбовой Америки;.

Грацианский Николай Павлович. О разделах земель у бургундов и у вестготов // Средние века. Выпуск 1. М.; Л., 1942. стр. 7—19.
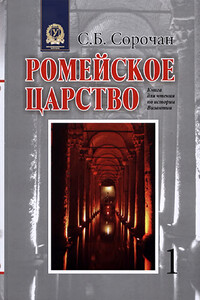
Книга для чтения стройно, в меру детально, увлекательно освещает историю возникновения, развития, расцвета и падения Ромейского царства — Византийской империи, историю византийской Церкви, культуры и искусства, экономику, повседневную жизнь и менталитет византийцев. Разделы первых двух частей книги сопровождаются заданиями для самостоятельной работы, самообучения и подборкой письменных источников, позволяющих читателям изучать факты и развивать навыки самостоятельного критического осмысления прочитанного.
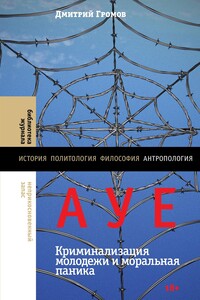
В августе 2020 года Верховный суд РФ признал движение, известное в медиа под названием «АУЕ», экстремистской организацией. В последние годы с этой загадочной аббревиатурой, которая может быть расшифрована, например, как «арестантский уклад един» или «арестантское уголовное единство», были связаны различные информационные процессы — именно они стали предметом исследования антрополога Дмитрия Громова. В своей книге ученый ставит задачу показать механизмы, с помощью которых явление «АУЕ» стало таким заметным медийным событием.

В своей новой книге известный немецкий историк, исследователь исторической памяти и мемориальной культуры Алейда Ассман ставит вопрос о распаде прошлого, настоящего и будущего и необходимости построения новой взаимосвязи между ними. Автор показывает, каким образом прошлое стало ключевым феноменом, характеризующим западное общество, и почему сегодня оказалось подорванным доверие к будущему. Собранные автором свидетельства из различных исторических эпох и областей культуры позволяют реконструировать время как сложный культурный феномен, требующий глубокого и всестороннего осмысления, выявить симптоматику кризиса модерна и спрогнозировать необходимые изменения в нашем отношении к будущему.

Новая книга известного филолога и историка, профессора Кембриджского университета Александра Эткинда рассказывает о том, как Российская Империя овладевала чужими территориями и осваивала собственные земли, колонизуя многие народы, включая и самих русских. Эткинд подробно говорит о границах применения западных понятий колониализма и ориентализма к русской культуре, о формировании языка самоколонизации у российских историков, о крепостном праве и крестьянской общине как колониальных институтах, о попытках литературы по-своему разрешить проблемы внутренней колонизации, поставленные российской историей.

Представленный в книге взгляд на «советского человека» позволяет увидеть за этой, казалось бы, пустой идеологической формулой множество конкретных дискурсивных практик и биографических стратегий, с помощью которых советские люди пытались наделить свою жизнь смыслом, соответствующим историческим императивам сталинской эпохи. Непосредственным предметом исследования является жанр дневника, позволивший превратить идеологические критерии времени в фактор психологического строительства собственной личности.