Искренность после коммунизма. Культурная история - [48]
Другими словами, в 2000‐х годах многие теоретики рассматривали террористические атаки как катализатор «нового» или возрожденного понятия искренности. В то же десятилетие проект возрождения искренности увязывался и с другими, более отдаленными историческими травмами. Йост Крейнен в раннем варианте своей докторской диссертации[420] описывал постмодернистский интерес к искренности в американской литературе, возводя его не к событиям 11 сентября 2001 года, а к памяти о Холокосте. С точки зрения Крейнена, такие писатели, как Джонатан Сафран Фоер и Майкл Шейбон, обращаются к постпостмодернистскому эквиваленту традиционной искренности для того, чтобы наделить травму Холокоста «одновременно значением и значимостью»[421].
Крейнен, Вассенс и Ротстайн называют наше время постпостмодернистским или позднепостмодернистским — и считают, наряду со многими другими, что выход за пределы (раннего) постмодернизма обусловлен в первую очередь коллективной памятью. Сходные суждения о зависимости позднего постмодернизма или постпостмодернизма от проблематики памяти появляются и в России начала 2000‐х годов. Тут нужно вспомнить взрывы жилых домов в 1999 году. В сентябре этого года четыре многоквартирных дома в разных концах России были разрушены в результате терактов. В результате 293 человека погибло и 651 ранено. Взрывы, которые, по мнению некоторых исследователей и журналистов, были организованы спецслужбами, побудили российское правительство начать Вторую Чеченскую войну.
Взрывы домов, которые иногда называют российским аналогом 11 сентября[422], можно считать стартовой точкой для обсуждения позднего постмодернизма или постпостмодернизма в России. Значение происходивших тогда перемен объяснил Михаил Эпштейн в статье, опубликованной в 2006 году. Он считает, что наряду с другими культурными травмами (помимо терактов 11 сентября, он указывает на трехдневную осаду школы в Беслане в 2004 году, во время которой погибло почти 400 человек) взрывы жилых домов заставили культурную элиту отказаться от постмодернистского релятивизма в пользу совершенно новой культурной парадигмы. По его словам, страшные события принудили искать убежища в опыте «единственного, неповторимого, всамделишного, неподвластного никаким симуляциям»[423].
Трактовка Эпштейном взрывов домов еще раз иллюстрирует, насколько ощутимо в 2000‐х годах историческая травма влияет на дебаты о постпостмодернизме и насколько для адептов «новой искренности» их собственная искренность является «терапевтической», помогающей залечивать как недавние, так и более застарелые исторические раны.
До сих пор мы сосредотачивались на дискурсе «терапевтической» искренности, развивавшейся в XXI веке. Мы видели, что культурная травма породила глобальный запрос на искренность начиная с 2000‐х годов. Теперь я хочу вернуться к теме нонконформистского искусства позднего СССР. Более пристальный взгляд на это искусство помогает понять, как в Советской России коллективная травма определяла попытки реанимировать искренность задолго до 2000 года. В работах Дмитрия Пригова это происходило уже с начала 1970‐х.
ТАК ХОЧЕТСЯ ИСКРЕННОСТИ: ПРИГОВ
К моменту смерти в 2007 году статус поэта Дмитрия Пригова как канонической фигуры в современной русской литературе ни у кого не вызывал сомнений. Столь же высокой была его репутация во многих других областях, в том числе в живописи, скульптуре, перформансе, рок-музыке, танце, опере и кинематографе[424]. Из всех его художественных акций наибольшую известность получил его «поведенческий проект» «ДАП» или «Дмитрий Александрович Пригов». Феномен «ДАП», возможно, лучше всего определить как постоянные и долговременные усилия по представлению персоны автора — включая его произведения, его физическое присутствие и биографию — в качестве дискурсивного и художественного продукта. По словам самого художника, основополагающей для «ДАП» была идея «мерцательных отношений между автором и текстом… в которых очень трудно определить (не только читателям, но также и автору) степень искренности в погружении в текст, и чистотой и дистанцией отхода от текста»[425].
В наиболее ощутимой и доступной форме приговскую «мерцательную стратегию» поведения можно увидеть в ряде коротких видео, выложенных на ютубе[426]. В них Пригов выступает как типичный носитель советской идеологии — нечто среднее между фигурами мудрого, но сурового вождя и пророчествующего писателя-мыслителя. Он, похоже, полностью отождествляется с этой ролью: внешнему наблюдателю непросто определить, как на самом деле относится автор к тому явлению, под которое он мимикрирует, — нейтрально, нежно-утвердительно или с мягкой насмешкой? Неудивительно, что «проект ДАП» породил горячие критические споры относительно проблем перформативности, театральности и аутентичности. Я вернусь к этим дискуссиям ниже, но прежде всего мне хотелось бы пристальнее вслушаться в голос самого Пригова.
Хотя в авторской ипостаси Пригова по определению невозможно отделить искренность от игры, сам поэт постоянно предупреждал о недопустимости односторонне-иронических, «несерьезных» прочтений своих работ. Среди адептов «новой искренности» сходные предупреждения часто сигнализируют об антипостмодернистских позициях, но Пригов, хотя его и считают основателем российской «новой искренности», никогда напрямую не противостоял постмодернизму. В 1980‐х в этом не было ничего удивительного. Как я уже сказала во «Введении» к этой книге, до начала 1990‐х в России мало кто использовал теоретический язык постмодернизма. Правда, само слово «постмодернизм» в начале 1980‐х годов часто возникало в нонконформистских изданиях, где Пригов публиковался

«История феодальных государств домогольской Индии и, в частности, Делийского султаната не исследовалась специально в советской востоковедной науке. Настоящая работа не претендует на исследование всех аспектов истории Делийского султаната XIII–XIV вв. В ней лишь делается попытка систематизации и анализа данных доступных… источников, проливающих свет на некоторые общие вопросы экономической, социальной и политической истории султаната, в частности на развитие форм собственности, положения крестьянства…» — из предисловия к книге.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

На основе многочисленных первоисточников исследованы общественно-политические, социально-экономические и культурные отношения горного края Армении — Сюника в эпоху развитого феодализма. Показана освободительная борьба закавказских народов в период нашествий турок-сельджуков, монголов и других восточных завоевателей. Введены в научный оборот новые письменные источники, в частности, лапидарные надписи, обнаруженные автором при раскопках усыпальницы сюникских правителей — монастыря Ваанаванк. Предназначена для историков-медиевистов, а также для широкого круга читателей.
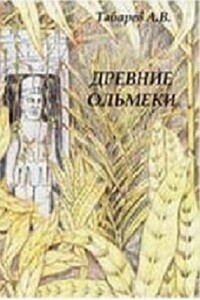
В книге рассказывается об истории открытия и исследованиях одной из самых древних и загадочных культур доколумбовой Мезоамерики — ольмекской культуры. Дается характеристика наиболее крупных ольмекских центров (Сан-Лоренсо, Ла-Венты, Трес-Сапотес), рассматриваются проблемы интерпретации ольмекского искусства и религиозной системы. Автор — Табарев Андрей Владимирович — доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН. Основная сфера интересов — культуры каменного века тихоокеанского бассейна и доколумбовой Америки;.

Грацианский Николай Павлович. О разделах земель у бургундов и у вестготов // Средние века. Выпуск 1. М.; Л., 1942. стр. 7—19.
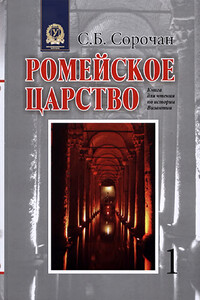
Книга для чтения стройно, в меру детально, увлекательно освещает историю возникновения, развития, расцвета и падения Ромейского царства — Византийской империи, историю византийской Церкви, культуры и искусства, экономику, повседневную жизнь и менталитет византийцев. Разделы первых двух частей книги сопровождаются заданиями для самостоятельной работы, самообучения и подборкой письменных источников, позволяющих читателям изучать факты и развивать навыки самостоятельного критического осмысления прочитанного.
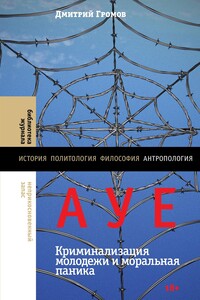
В августе 2020 года Верховный суд РФ признал движение, известное в медиа под названием «АУЕ», экстремистской организацией. В последние годы с этой загадочной аббревиатурой, которая может быть расшифрована, например, как «арестантский уклад един» или «арестантское уголовное единство», были связаны различные информационные процессы — именно они стали предметом исследования антрополога Дмитрия Громова. В своей книге ученый ставит задачу показать механизмы, с помощью которых явление «АУЕ» стало таким заметным медийным событием.

В своей новой книге известный немецкий историк, исследователь исторической памяти и мемориальной культуры Алейда Ассман ставит вопрос о распаде прошлого, настоящего и будущего и необходимости построения новой взаимосвязи между ними. Автор показывает, каким образом прошлое стало ключевым феноменом, характеризующим западное общество, и почему сегодня оказалось подорванным доверие к будущему. Собранные автором свидетельства из различных исторических эпох и областей культуры позволяют реконструировать время как сложный культурный феномен, требующий глубокого и всестороннего осмысления, выявить симптоматику кризиса модерна и спрогнозировать необходимые изменения в нашем отношении к будущему.

Новая книга известного филолога и историка, профессора Кембриджского университета Александра Эткинда рассказывает о том, как Российская Империя овладевала чужими территориями и осваивала собственные земли, колонизуя многие народы, включая и самих русских. Эткинд подробно говорит о границах применения западных понятий колониализма и ориентализма к русской культуре, о формировании языка самоколонизации у российских историков, о крепостном праве и крестьянской общине как колониальных институтах, о попытках литературы по-своему разрешить проблемы внутренней колонизации, поставленные российской историей.

Представленный в книге взгляд на «советского человека» позволяет увидеть за этой, казалось бы, пустой идеологической формулой множество конкретных дискурсивных практик и биографических стратегий, с помощью которых советские люди пытались наделить свою жизнь смыслом, соответствующим историческим императивам сталинской эпохи. Непосредственным предметом исследования является жанр дневника, позволивший превратить идеологические критерии времени в фактор психологического строительства собственной личности.