Искренность после коммунизма. Культурная история - [46]
В конечном итоге самиздатовские практики превратились в полноправные объекты художественной рефлексии. Многие исследователи пишут о том, что самиздат «приобретал… эстетическую значимость… в контексте постсоветского и международного потребления», но этот процесс начался еще в позднесоветских альбомах, создававшихся Михайловым и другими художниками, которые сознательно имитировали и пародировали «самодельную» эстетику самиздата[402]. Их альбомы показывают, как с течением времени несовершенные по шрифтам и дизайну книги стали характерными знаками свободомыслия советских нонконформистов (напомню о несколько схожем случае популярности аввакумского «Жития» в качестве социальной критики, отчасти объясняемой подчеркнуто простонародным, «несовершенным» стилем автора).
ИСКРЕННОСТЬ — ПОСТМОДЕРНИЗМ — ТРАВМА
Интерес к «самодельной» эстетике и новаторству в России 1980‐х годов возник не на пустом месте. Его надо рассматривать в связи с переходным политическим характером эпохи, с ее четко обозначившимся интересом к проблемам коллективной памяти. Как хорошо известно, в перестроечных интерпретациях советской истории доминировали ревизия, пересмотр и критически настроенные исторические бои на страницах популярных журналов, книг, в художественных галереях, в кино и на телевидении[403].
Голынко-Вольфсон считает, что эти историко-политические аспекты оставались маргинальными для «Новых» инициатив Новикова: в деятельности художника доминировал скорее «момент синхронизации с историей западного искусства XX века, то есть стремление прописаться в чужом, уже архивированном и музеефицированном прошлом»[404]. Однако в дебатах о новой искренности вопросы политики и памяти были ключевыми с самого начала. Трактовки новой искренности иллюстрируют, как в то время в новых-старых бинарных оппозициях «новое», как показывает ретроспективный анализ публичного дискурса перестройки, выступало как синоним «хорошего», а «старое» как «во-первых, советское… во-вторых, неправильное»[405].
Свойственная перестройке обращенность к советской истории показывает, что в России альтернативный постмодерну поиск «нового» и «задушевного» приобрел специфические локальные черты. В российском контексте этот поиск был связан с другим, сопутствующим ему поиском — постсоветского художественного кредо. Как были взаимосвязаны стремление преодолеть постмодернизм и советское наследие, станет понятно, если мы перечитаем процитированные выше высказывания о возрождении искренности. Свен Гундлах предложил свою «новую искренность» в 1989 году в каталоге ретроспективной выставки о советском образе жизни[406]. Защита Тимуром Кибировым сентиментализма и художественной искренности была реакцией на пародийные стратегии преодоления советской травмы, к которым прибегали его коллеги по цеху[407]. Сергей Гандлевский предлагал свой «критический сентиментализм» именно как метод обращения с советским прошлым. Несмотря на раздражение, которое вызывает у Гандлевского культовый статус его статьи, мне бы хотелось рассмотреть ее более детально.
Гандлевский начинает с идиллического изображения утра в один из главных советских праздников: «…весна. Вымыты окна. Чирикают во дворе воробьи. „Точить ножи-ножницы“, — кричит последний, может быть, точильщик. Праздник — и на столе сыр и шпроты, впереди — целый день. Готовы для выхода берет, короткие штаны, белые гольфы с кистями. Коммунальные склоки побоку, и соседи поздравляют друг друга. 1 мая, счастье»[408]. Далее Гандлевский показывает, как с течением времени невинные бытовые радости уступают место постепенному осознанию, что «больше, чем кто бы то ни было на свете, мы были введены в заблуждение, праздника не было, а были: кровь, ложь, общее оскотинивание»[409]. Жажда автора к новой, искренней сентиментальности происходит именно из этого исторического разочарования. Не случайно, как Гандлевский рассказал мне, его эссе было вдохновлено фильмом Алексея Германа «Мой друг Иван Лапшин». При первом показе в 1983 году эта предвещавшая перестройку и ставшая впоследствии классикой картина поражала зрителей доскональным воспроизведением недавнего советского прошлого. Гандлевский смотрел фильм вместе с отцом. После просмотра отец и сын не смогли прийти к единому мнению о том, в каком свете — с одобрением или с порицанием — режиссер изображал советскую жизнь. Как вспоминал Гандлевский, их спор стал для него важным уроком истории: он понял, что к прошлому можно относиться с «эмоциональной двойственностью». В германовском изображении раннего советского прошлого жизни, подводил итог поэт, «тепло» и «стыд» сосуществовали[410].
Пропагандируя возрождение художественной искренности, Гандлевский и его коллеги призывали к совершенно особой искренности — той, которую я называю «целительной». Под «целительной искренностью» я подразумеваю такой тип искренности, который для тех, кто к ней прибегает, выполняет терапевтическую функцию, используется для преодоления исторической травмы. Я не первая, кто указывает на эту функцию определенных эмоций — или, точнее, аффективных стратегий — при переработке коммунистического опыта. Наиболее детально эта тема развита Марией Тодоровой в рассуждениях о посткоммунистической ностальгии. Тодорова опирается на труды Светланы Бойм и ее востребованное (хотя не бесспорное) понятие реставрирующей ностальгии — того типа ностальгии, которая выражает болезненное отношение к потере традиций и стремится восстановить потерянный дом. Тодорова соглашается с Бойм, но замечает, что следует «проводить различие между реставрирующей (в смысле желания восстановить прошлое) и восстановительной, или
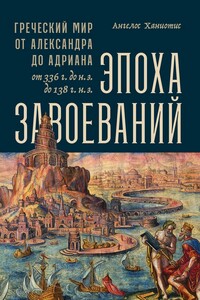
В своей новой книге видный исследователь Античности Ангелос Ханиотис рассматривает эпоху эллинизма в неожиданном ракурсе. Он не ограничивает период эллинизма традиционными хронологическими рамками — от завоеваний Александра Македонского до падения царства Птолемеев (336–30 гг. до н. э.), но говорит о «долгом эллинизме», то есть предлагает читателям взглянуть, как греческий мир, в предыдущую эпоху раскинувшийся от Средиземноморья до Индии, существовал в рамках ранней Римской империи, вплоть до смерти императора Адриана (138 г.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

На основе многочисленных первоисточников исследованы общественно-политические, социально-экономические и культурные отношения горного края Армении — Сюника в эпоху развитого феодализма. Показана освободительная борьба закавказских народов в период нашествий турок-сельджуков, монголов и других восточных завоевателей. Введены в научный оборот новые письменные источники, в частности, лапидарные надписи, обнаруженные автором при раскопках усыпальницы сюникских правителей — монастыря Ваанаванк. Предназначена для историков-медиевистов, а также для широкого круга читателей.
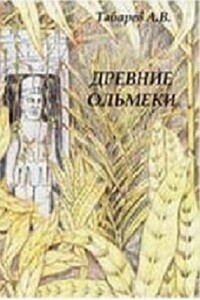
В книге рассказывается об истории открытия и исследованиях одной из самых древних и загадочных культур доколумбовой Мезоамерики — ольмекской культуры. Дается характеристика наиболее крупных ольмекских центров (Сан-Лоренсо, Ла-Венты, Трес-Сапотес), рассматриваются проблемы интерпретации ольмекского искусства и религиозной системы. Автор — Табарев Андрей Владимирович — доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН. Основная сфера интересов — культуры каменного века тихоокеанского бассейна и доколумбовой Америки;.

Грацианский Николай Павлович. О разделах земель у бургундов и у вестготов // Средние века. Выпуск 1. М.; Л., 1942. стр. 7—19.
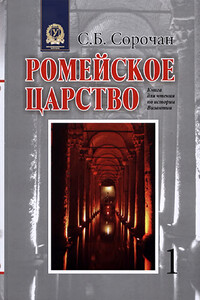
Книга для чтения стройно, в меру детально, увлекательно освещает историю возникновения, развития, расцвета и падения Ромейского царства — Византийской империи, историю византийской Церкви, культуры и искусства, экономику, повседневную жизнь и менталитет византийцев. Разделы первых двух частей книги сопровождаются заданиями для самостоятельной работы, самообучения и подборкой письменных источников, позволяющих читателям изучать факты и развивать навыки самостоятельного критического осмысления прочитанного.
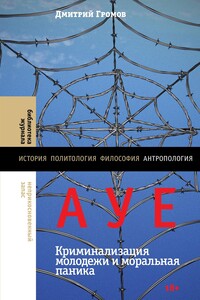
В августе 2020 года Верховный суд РФ признал движение, известное в медиа под названием «АУЕ», экстремистской организацией. В последние годы с этой загадочной аббревиатурой, которая может быть расшифрована, например, как «арестантский уклад един» или «арестантское уголовное единство», были связаны различные информационные процессы — именно они стали предметом исследования антрополога Дмитрия Громова. В своей книге ученый ставит задачу показать механизмы, с помощью которых явление «АУЕ» стало таким заметным медийным событием.

В своей новой книге известный немецкий историк, исследователь исторической памяти и мемориальной культуры Алейда Ассман ставит вопрос о распаде прошлого, настоящего и будущего и необходимости построения новой взаимосвязи между ними. Автор показывает, каким образом прошлое стало ключевым феноменом, характеризующим западное общество, и почему сегодня оказалось подорванным доверие к будущему. Собранные автором свидетельства из различных исторических эпох и областей культуры позволяют реконструировать время как сложный культурный феномен, требующий глубокого и всестороннего осмысления, выявить симптоматику кризиса модерна и спрогнозировать необходимые изменения в нашем отношении к будущему.

Новая книга известного филолога и историка, профессора Кембриджского университета Александра Эткинда рассказывает о том, как Российская Империя овладевала чужими территориями и осваивала собственные земли, колонизуя многие народы, включая и самих русских. Эткинд подробно говорит о границах применения западных понятий колониализма и ориентализма к русской культуре, о формировании языка самоколонизации у российских историков, о крепостном праве и крестьянской общине как колониальных институтах, о попытках литературы по-своему разрешить проблемы внутренней колонизации, поставленные российской историей.

Представленный в книге взгляд на «советского человека» позволяет увидеть за этой, казалось бы, пустой идеологической формулой множество конкретных дискурсивных практик и биографических стратегий, с помощью которых советские люди пытались наделить свою жизнь смыслом, соответствующим историческим императивам сталинской эпохи. Непосредственным предметом исследования является жанр дневника, позволивший превратить идеологические критерии времени в фактор психологического строительства собственной личности.