Игра в классики. Русская проза XIX–XX веков - [171]
Выше у Набокова как бы вскользь говорилось о малозаметной бытовой детали в антураже Новодворцева: «Около чернильницы стояло нечто вроде квадратного стакана с тремя вставками, воткнутыми в синюю стеклянную икру. Этой вещи было лет десять, пятнадцать, – она прошла через все бури, миры вокруг нее растряхивались, – но ни одна стеклянная дробинка не потерялась» (533). Это ключ ко всей биографии Алексея Толстого, как ее видели и в эмиграции, и в России: граф превосходно жил при всех режимах, проходил через все бури в целости и сохранности – это и было самым главным его принципом.
Дьяк у Колумба. 1928 год – это по всем признакам надир: надир и художественного пути Толстого, и набоковского к нему сочувствия. Но меньше чем через два года «Подвиг» запечатлел уже совершенно другое, гораздо более уважительное отношение если не к личности, то к искусству Алексея Толстого.
Мне кажется, что причиной этого сдвига был выход (в 1929 году в журнале «Новый мир», а в 1930 – отдельной книгой) толстовского романа «Петр Первый». Вчитаемся в набоковскую характеристику прозы Бубнова в «Подвиге»: «Начав писать уже за границей, Бубнов за три года выпустил три прекрасных книги, писал четвертую, героем ее был Христофор Колумб – или, точнее, русский дьяк, чудесно попавший матросом на одну из Колумбовых каравелл…» (200).
Толстой начал успешно печатать прозу задолго до войны, в 1909 году, но статус крупного писателя он получил уже в эмиграции: «Детство Никиты», частично опубликованное в парижском журнале в 1920, а книгой – в 1922 году в Берлине, «Хождение по мукам» (1920–1921) и «Аэлита» (1922) были, возможно, теми тремя книгами, которые имел в виду автор «Подвига». Толстой выпустил их в Берлине в издательстве «Русское творчество», которое сам и возглавлял.
Итак, в «Подвиге» Бубнов пишет четвертую книгу, исторический роман – о древнерусском дьяке, попавшем в европейское культурное пространство. Это, конечно, тема «Петра Первого». Выдумка Набокова замечательно схватывает секрет очарования толстовской исторической прозы – сплав современнейшего русского языка с аппетитно стилизованным старинным. На мой взгляд, в виньетке Набокова отразился еще один русский исторический роман – правда, недописанный. Это роман о Петре, начатый Львом Толстым, где действия царя-реформатора должны были восприниматься глазами героя – человека из народа, служащего матросом на одном из первых кораблей, построенных Петром. Корабль у Набокова – также и широкая аллюзия на петровскую тему в русской классике.
Что значил «Петр» для Алексея Толстого? После пяти лет глубочайшего художественного упадка писатель (а ему уже под пятьдесят) вдруг как бы сам за волосы вытаскивает себя из трясины и возвращается к настоящему творчеству. Автора поздравил даже Бунин.
Набоковед и ученик Набокова Алфред Аппель взял у него интервью, где тот вспоминает, как с девочками Зиверт сидел когда-то в берлинском кафе, спиной к Толстому и Андрею Белому. Оба они в то время настроены были уже просоветски и собирались возвращаться в Россию. Набоков не стал общаться с ними. Он подчеркнул в интервью, что не заговорил с Белым, ощущая себя как настоящий «белый», для которого немыслимо было иметь дело с большевизаном[408]. Несомненно, это же соображение касалось и Толстого.
Но в том же интервью есть и такое признание:
I was acquainted with Tolstoy but of course ignored him. He was a writer of some talent and has two or three science fiction stories or novels which are memorable. But I wouldn’t care to categorize writers, the only category being originality and talent. After all, if we start sticking group labels, we’ll have to put The Tempest in the SF category, and, of course, thousands of other valuable works[409].
Возможно, что-то мешало Набокову осудить Толстого. Это могла быть память о семейной дружбе, о поддержке старшим писателем его первых литературных шагов. И уважение к его таланту, восстановленное, по нашему предположению, после политических скандалов и писательских неудач конца 1920-х.
Есть работы Максима Шраера – прежде всего, недавняя книга «Бунин и Набоков. История соперничества» (М., 2014), – связывающие становление Набокова-прозаика с его ученичеством у Бунина, которое сменилось потом соперничеством. Но, несомненно, стоит задаться и вопросом о возможном ученичестве юного автора также у Алексея Толстого.
Надо помнить, что на 1922–1923 год тот воплощал в себе тип писателя, идущего в ногу со временем, – писателя, который демонстративно противопоставлял себя ностальгирующей интеллигенции. Вопреки многим, кто увидел в «Хождении по мукам» лишь психологический роман старого образца, Ветлугин отмечал его сюжетную интенсивность и насыщенность[410], – вспомним, что еще во время войны Толстой сочинял остросюжетные новеллы, например «Под водой» или «Незнакомка». Но «Хождение по мукам», написанное на новом, военном материале, прекрасно известном Толстому по фронтовым впечатлениям, в чем-то следовало и символистским романам 1914–1915 годов, например в отчетливо оккультной сюжетной подоплеке, игре с символистскими претекстами, символических снах. Остросюжетный научно-фантастический роман «Аэлита» Толстого одновременно оказался и образцовым символистским романом – как об этом написала Нина Петровская. Не зря Набоков относит Толстого именно к научной фантастике. Путь, проложенный Толстым, – путь к остросюжетному, фантастическому или оккультному повествованию с постсимволистской мифопоэтической техникой, путь, альтернативный бунинскому, возможно, привлекал Набокова своей дерзкой современностью.
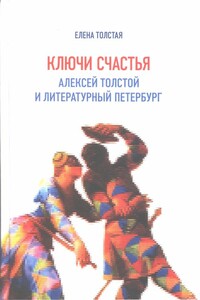
Настоящее исследование Е. Толстой «Ключи счастья» посвящено малоизвестному раннему периоду творческой биографии Алексея Николаевича Толстого, оказавшему глубокое влияние на все его последующее творчество. Это годы, проведенные в Париже и Петербурге, в общении с Гумилевым, Волошиным, Кузминым, это участие в театральных экспериментах Мейерхольда, в журнале «Аполлон», в работе артистического кабаре «Бродячая собака». В книге также рассматриваются сюжеты и ситуации, связанные с женой Толстого в 1907–1914 годах — художницей-авангардисткой Софьей Дымшиц.

В статье анализируется одна из ключевых характеристик поэтики научной фантастики американской Новой волны — «приключения духа» в иллюзорном, неподлинном мире.

Эмма Смит, профессор Оксфордского университета, представляет Шекспира как провокационного и по-прежнему современного драматурга и объясняет, что делает его произведения актуальными по сей день. Каждая глава в книге посвящена отдельной пьесе и рассматривает ее в особом ключе. Самая почитаемая фигура английской классики предстает в новом, удивительно вдохновляющем свете. На русском языке публикуется впервые.

Диссертация американского слависта о комическом в дилогии про НИИЧАВО. Перевод с московского издания 1994 г.

Научное издание, созданное словенскими и российскими авторами, знакомит читателя с историей словенской литературы от зарождения письменности до начала XX в. Это первое в отечественной славистике издание, в котором литература Словении представлена как самостоятельный объект анализа. В книге показан путь развития словенской литературы с учетом ее типологических связей с западноевропейскими и славянскими литературами и культурами, представлены важнейшие этапы литературной эволюции: периоды Реформации, Барокко, Нового времени, раскрыты особенности проявления на словенской почве романтизма, реализма, модерна, натурализма, показана динамика синхронизации словенской литературы с общеевропейским литературным движением.

Настоящая книга является первой попыткой создания всеобъемлющей истории русской литературной критики и теории начиная с 1917 года вплоть до постсоветского периода. Ее авторы — коллектив ведущих отечественных и зарубежных историков русской литературы. В книге впервые рассматриваются все основные теории и направления в советской, эмигрантской и постсоветской критике в их взаимосвязях. Рассматривая динамику литературной критики и теории в трех основных сферах — политической, интеллектуальной и институциональной — авторы сосредоточивают внимание на развитии и структуре русской литературной критики, ее изменяющихся функциях и дискурсе.

Книга известного литературоведа посвящена исследованию самоубийства не только как жизненного и исторического явления, но и как факта культуры. В работе анализируются медицинские и исторические источники, газетные хроники и журнальные дискуссии, предсмертные записки самоубийц и художественная литература (романы Достоевского и его «Дневник писателя»). Хронологические рамки — Россия 19-го и начала 20-го века.

В книге рассматриваются индивидуальные поэтические системы второй половины XX — начала XXI века: анализируются наиболее характерные особенности языка Л. Лосева, Г. Сапгира, В. Сосноры, В. Кривулина, Д. А. Пригова, Т. Кибирова, В. Строчкова, А. Левина, Д. Авалиани. Особое внимание обращено на то, как авторы художественными средствами исследуют свойства и возможности языка в его противоречиях и динамике.Книга адресована лингвистам, литературоведам и всем, кто интересуется современной поэзией.

Если рассматривать науку как поле свободной конкуренции идей, то закономерно писать ее историю как историю «победителей» – ученых, совершивших большие открытия и добившихся всеобщего признания. Однако в реальности работа ученого зависит не только от таланта и трудолюбия, но и от места в научной иерархии, а также от внешних обстоятельств, в частности от политики государства. Особенно важно учитывать это при исследовании гуманитарной науки в СССР, благосклонной лишь к тем, кто безоговорочно разделял догмы марксистско-ленинской идеологии и не отклонялся от линии партии.