Игра в классики. Русская проза XIX–XX веков - [170]
Генерал с ножницами. Однако получается у него форменная чепуха:
Эмигранты плачут вокруг елки, напялили мундиры, пахнущие нафталином, смотрят на елку и плачут. Где-нибудь в Париже. Старый генерал вспоминает, как бил по зубам, и вырезает ангела из золотого картона… Он подумал о генерале, которого действительно знал, который действительно был теперь заграницей, – и никак не мог представить его себе плачущим, коленопреклоненным перед елкой… (535)
Алексей Толстой, в кавказском фронтовом очерке 1915 года с восхищением изобразивший генерала В. П. Ляхова (1869–1920), и в самом деле не мог бы представить его себе плачущим под елкой. Невозможно было вообразить его и бьющим солдат по зубам. В этом очерке Толстой как раз и описывал корректность, уважительность Ляхова к подчиненным и его любовную заботу о солдатах. О контактах автора с другими генералами нам ничего не известно. Вряд ли он встречался с А. И. Деникиным в Одессе в 1918–1919 годах, да и в Париже у него тоже не было шанса познакомиться с ним – Деникин приехал туда только в 1926 году, Толстой же еще в 1923-м переселился в Берлин. Генерала Корнилова он, правда, видел в Москве в августе 1918-го, но знаком с ним не был, с генералом Врангелем тоже не пересекался. Впрочем, отсутствие знакомства не помешало ему изобразить и Корнилова, и Деникина в «1918 годе». Каких-то стареньких генералов он мог встречать в Париже, но и те заведомо не подходили под убогие клише, которым следует Новодворцев.
Похоже, однако, что в этом случае нам и не нужно соотноситься с реальностью. Мотив генерала, вырезающего из бумаги, взят Набоковым у самого Алексея Толстого – это его комедия «Нечистая сила» (1915), где действует штатский генерал, то есть статский советник Мардыкин, которого все называют генералом и обращаются «Ваше превосходительство». Он очень стар и ведет себя тоже по старинке – увидев муху в кофе, выплескивает его в лицо провинившемуся слуге. (Ср. у Набокова воображаемого старого генерала, который ностальгически вспоминает о мордобое.) Несмотря на свой преклонный возраст, Мардыкин заведует департаментом министерства торговли и промышленности. У него странная привычка: погрешив против честности, он всякий раз вырезывает из бумаги чертей. Старик замешан в аферах шпионов и мошенников, и количество этих бумажных бесов множится. (У набоковского Новодворцева воображаемый генерал вместо чертика из бумаги вырезает ангела из картона.)
Завистник и графоман. «Рождественский рассказ» подхватывает линию ревности автора к молодым коллегам, характерную потом для Бубнова. Но если Бубнов ревнует к талантам, Новодворцев везде видит плагиат – из его собственных текстов. «И уже не в первый раз ему брезжил в их неопытных повестях отсвет – до сих пор критикой не отмеченный – его собственного двадцатипятилетнего творчества» (531). Все настойчивее автор «Рождественского рассказа» педалирует тему утраченного дара. Перед нами настоящий графоман: «Он выбрал перо, придвинул лист бумаги, подложил еще несколько листов, чтобы было пухлее писать» (533).
Раньше никто не обвинял Толстого в многописании – но «Восемнадцатый год» получился растянутым, скучным, перегруженным непереваренным документальным материалом. Отсюда, вероятно, и этот аспект образа у Набокова.
Оказывается между тем, что его Новодворцев способен чуть ли не искренне проникнуться спущенным ему «социальным заказом». То, что было эмпатией у подлинного писателя, теперь обернулось гибкостью приспособленца. Автора даже посещает вдохновение: «С чувством беспредельного упоения, сладкого ожидания, Новодворцев снова присел к столу» (534). Не замечая, что ему изменяют и вкус, и такт, и чувство реальности, он вдохновенно порождает нечто невообразимо лживое:
И что-то новое, неожиданное стало грезиться ему. Европейский город, сытые люди в шубах. Озаренная витрина. За стеклом огромная елка, обложенная по низу окороками; и на ветках дорогие фрукты. Символ довольствия. А перед витриной, на ледяном тротуаре…
И, с торжественным волнением, чувствуя, что он нашел нужное, единственное, – что напишет нечто изумительное, изобразит, как никто, столкновение двух классов, двух миров, он принялся писать. Он писал о дородной елке в бесстыдно освещенной витрине и о голодном рабочем, жертве локаута, который на елку смотрел суровым и тяжелым взглядом.
«Наглая елка», писал Новодворцев, «переливалась всеми огнями радуги».
Картина, им придуманная, неправдоподобна до гротеска: это «буржуазная» съедобная елка, не только обложенная окороками, но и сама дородная, а перед ней хрестоматийный рабочий, голодный и злобный, очевидно желающий все это – и окорока, и саму елку, и «дорогие фрукты» (в которые преобразились Никитины мандарины) – сожрать. В таком финале чувствуется некоторая завистливая обида – то ли на елку, то ли на ее утрату. Как она смеет «там» радовать людей – когда «здесь» ее запретили! Не поэтому ли она названа наглой, а освещенная витрина – бесстыдной? «Наглая елка», писал Новодворцев, «переливалась всеми огнями радуги», – в точности как елка Никиты «стояла <…> переливаясь золотом, искрами, длинными лучами». Подлинные чувства Новодворцева как бы вылезают из-под официально предписанных. Его изуродованная (им самим) душа мстит.
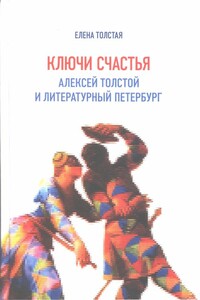
Настоящее исследование Е. Толстой «Ключи счастья» посвящено малоизвестному раннему периоду творческой биографии Алексея Николаевича Толстого, оказавшему глубокое влияние на все его последующее творчество. Это годы, проведенные в Париже и Петербурге, в общении с Гумилевым, Волошиным, Кузминым, это участие в театральных экспериментах Мейерхольда, в журнале «Аполлон», в работе артистического кабаре «Бродячая собака». В книге также рассматриваются сюжеты и ситуации, связанные с женой Толстого в 1907–1914 годах — художницей-авангардисткой Софьей Дымшиц.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В своей речи по случаю присуждения ему Нобелевской премии, произнесенной 7 декабря 1999 года в Стокгольме, немецкий писатель Гюнтер Грасс размышляет о послевоенном времени и возможности в нём литературы, о своих литературных корнях, о человечности и о противоречивости человеческого бытия…

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Предмет этой книги — искусство Бродского как творца стихотворений, т. е. самодостаточных текстов, на каждом их которых лежит печать авторского индивидуальности. Из шестнадцати представленных в книге работ западных славистов четырнадцать посвящены отдельным стихотворениям. Наряду с подробным историко-культурными и интертекстуальными комментариями читатель найдет здесь глубокий анализ поэтики Бродского. Исследуются не только характерные для поэта приемы стихосложения, но и такие неожиданные аспекты творчества, как, к примеру, использование приемов музыкальной композиции.

Эта книга удивительна тем, что принадлежит к числу самых последних более или менее полных исследований литературного творчества Толкиена — большого писателя и художника. Созданный им мир - своего рода Зазеркалье, вернее, оборотная сторона Зеркала, в котором отражается наш, настоящий, мир во всех его многогранных проявлениях. Главный же, непреложный закон мира Толкиена, как и нашего, или, если угодно, сила, им движущая, — извечное противостояние Добра и Зла. И то и другое, нетрудно догадаться, воплощают в себе исконные обитатели этого мира, герои фантастические и вместе с тем совершенно реальные: с одной стороны, доблестные воители — хоббиты, эльфы, гномы, люди и белые маги, а с другой, великие злодеи — колдуны со своими приспешниками.Чудесный свой мир Толкиен создавал всю жизнь.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Франция привыкла считать себя интеллектуальным центром мира, местом, где культивируются универсальные ценности разума. Сегодня это представление переживает кризис, и в разных странах появляется все больше публикаций, где исследуются границы, истоки и перспективы французской интеллектуальной культуры, ее место в многообразной мировой культуре мысли и словесного творчества. Настоящая книга составлена из работ такого рода, освещающих статус французского языка в культуре, международную судьбу так называемой «новой французской теории», связь интеллектуальной жизни с политикой, фигуру «интеллектуала» как проводника ценностей разума в повседневном общественном быту.

В книге делается попытка подвергнуть существенному переосмыслению растиражированные в литературоведении канонические представления о творчестве видных английских и американских писателей, таких, как О. Уайльд, В. Вулф, Т. С. Элиот, Т. Фишер, Э. Хемингуэй, Г. Миллер, Дж. Д. Сэлинджер, Дж. Чивер, Дж. Апдайк и др. Предложенное прочтение их текстов как уклоняющихся от однозначной интерпретации дает возможность читателю открыть незамеченные прежде исследовательской мыслью новые векторы литературной истории XX века.

В книге рассматриваются индивидуальные поэтические системы второй половины XX — начала XXI века: анализируются наиболее характерные особенности языка Л. Лосева, Г. Сапгира, В. Сосноры, В. Кривулина, Д. А. Пригова, Т. Кибирова, В. Строчкова, А. Левина, Д. Авалиани. Особое внимание обращено на то, как авторы художественными средствами исследуют свойства и возможности языка в его противоречиях и динамике.Книга адресована лингвистам, литературоведам и всем, кто интересуется современной поэзией.

Если рассматривать науку как поле свободной конкуренции идей, то закономерно писать ее историю как историю «победителей» – ученых, совершивших большие открытия и добившихся всеобщего признания. Однако в реальности работа ученого зависит не только от таланта и трудолюбия, но и от места в научной иерархии, а также от внешних обстоятельств, в частности от политики государства. Особенно важно учитывать это при исследовании гуманитарной науки в СССР, благосклонной лишь к тем, кто безоговорочно разделял догмы марксистско-ленинской идеологии и не отклонялся от линии партии.