Игра в классики. Русская проза XIX–XX веков - [169]
Окно выходило во двор. Луны не было видно… нет, впрочем, вон там сияние из-за темной трубы. Во дворе были сложены дрова, покрытые светящимся ковром снега. В одном окне горел зеленый колпак лампы, кто-то работал у стола; как бисер, блестели счеты. С краю крыши вдруг упали, совершенно беззвучно, несколько снежных комьев. И опять – оцепенение.
Он почувствовал ту щекочущую пустоту, которая всегда у него сопровождала желание писать. В этой пустоте что-то принимало образ, росло (533).
Но свой драгоценный дар и свое писательское вдохновение он тратит на тему, только что подсказанную ему тертым критиком, – «современное Рождество». Не зря сосед заходит к нему и просит у него перышко, желательно «тупенькое» – наверное, в знак того, что от него теперь требуется и писание «тупенькое»… И весь свой талант прозаик направляет на идиотский заказ: «Рождество, новое, особое. Этот старый снег и новый конфликт…» (534).
Елки и цитрусы. Новодворцеву сопротивляется его собственный дар, писателя спонтанно захватывают живые и подлинные ассоциации: «Он скользнул обратно к образу елки – и вдруг, ни с того ни с сего вспомнил гостиную в одном купеческом доме, большую книгу статей и стихов с золотым обрезом (в пользу голодающих), как-то связанную с этим домом» (535). На наш взгляд, тут имеется ссылка на реальный эпизод из биографии Алексея Толстого. Неизвестно о его публикациях в сборниках, которые выпускали в помощь голодающим. Однако в одном филантропическом, действительно очень престижном и роскошном издании он участвовал. Это был сборник «Щит» (1915), выпущенный типографией богача, сына купца первой гильдии А. И. Мамонтова (не связанного с Саввой Мамонтовым), под редакцией Леонида Андреева, И. И. Толстого (известного археолога) и Федора Сологуба в пользу еврейских беженцев. Сборник оказался невероятно популярен и два раза подряд переиздавался. Толстой опубликовал там рассказ «Анна Зисерман».
Тема елки в «Рождественском рассказе» отсылает к самой известной и удачной вещи Толстого. Новодворцев вспоминает:
и елку в гостиной, и женщину, которую он тогда любил, и то, как все огни елки хрустальным дрожанием отражались в ее широко раскрытых глазах, когда она с высокой ветки срывала мандарин. Это было лет двадцать, а то и больше назад, – но как мелочи запоминаются (Там же).
За этим текстом, прежде всего, угадывается описание елки в «Детстве Никиты», откуда, по всей вероятности, взята у Набокова сама связка «елка – мандарины»:
В окне на морозных узорах затеплился голубоватый свет. Лиля проговорила тоненьким голосом:
– Звезда взошла.
И в это время раскрылись двери в кабинет. Дети соскочили с дивана. В гостиной от пола до потолка сияла елка множеством, множеством свечей. Она стояла, как огненное дерево, переливаясь золотом, искрами, длинными лучами. Свет от нее шел густой, теплый, пахнущий хвоей, воском, мандаринами, медовыми пряниками.
Дети стояли неподвижно, потрясенные[405].
В 1920 году, когда печатались первые главы «Детства Никиты», елка показана была как потрясающее религиозное переживание. Она вся – свет, она и есть земное воплощение Рождественской звезды. Она действует на все чувства, в том числе и на обоняние – свет ее пахнет хвоей, воском и, что важно здесь, мандаринами.
Из «Детства Никиты» же переходит к Набокову и мотив отражения огней елки в глазах любимой; ср. у Толстого: «Она дала ему руку, в синих газах ее, в каждом глазу горело по елочке»[406]. В более ранней русской литературе этой детали мы не обнаружили.
Кроме того, существует прелестный рассказ Алексея Толстого «Искры», написанный в 1915 году (возможно, Набоков вспомнил о нем, читая про «искры» от Никитиной елки). Он основан на романтической истории, связавшей в конце 1914 года Толстого с Натальей Крандиевской – по первому браку Натальей Волькенштейн. (Переиздавая его в Берлине в 1922 году, автор назвал этот рассказ иначе – «Любовь».) Здесь уже есть и прекрасная возлюбленная, и ее чудесная сестра: это та завязь, из которой развился роман «Сестры». Рассказ кончается смертью героев, причем роль навязчивой детали играют здесь апельсины:
Он побежал в буфет и купил апельсинов, хотел еще взять конфет, но испугался, что пропустит Машу, и вновь стал у выхода. От апельсинов и еще от чего-то совсем неясного ему было тревожно и печально и смертно жаль Машу, точно она была беззащитна, покорна всему, чего не избежать.
Погибшие герои изображены так:
Егор Иванович раскрыл рот, рванулся, но крик его заглушили пять подряд резких выстрелов. Не разнимая рук, Егор и Маша опустились на асфальт. У ног их рассыпались апельсины из коричневого мешка[407].
Этот подтекст подкрепляет связку «елка – цитрусы – любовь» в указанном фрагменте у Набокова.
Но все это для Новодворцева осталось в прошлом. Ныне перед нами ремесленник: «С досадой отвернулся он от этого воспоминания» – оно не поможет в его сочинении на заданную тему, тему «социальную», которая тогда означала натравливание на имущих: в романах о революции богатых обличали задним числом; а применительно к современности живописали контрасты «гниющего Запада». Елка, отмененная в Советской России, должна теперь вызывать отрицательные чувства, думает Новодворцев. Кто теперь наряжает елку? В России это «бывшие люди, запуганные, злобные, обреченные (он их представил себе так ясно…)». Они «украшают бумажками тайно срубленную в лесу елку» – и для рассказа не годятся. Как всегда, сюжет он должен «обострить», – и потому действие переносит в эмиграцию.
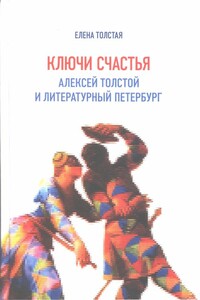
Настоящее исследование Е. Толстой «Ключи счастья» посвящено малоизвестному раннему периоду творческой биографии Алексея Николаевича Толстого, оказавшему глубокое влияние на все его последующее творчество. Это годы, проведенные в Париже и Петербурге, в общении с Гумилевым, Волошиным, Кузминым, это участие в театральных экспериментах Мейерхольда, в журнале «Аполлон», в работе артистического кабаре «Бродячая собака». В книге также рассматриваются сюжеты и ситуации, связанные с женой Толстого в 1907–1914 годах — художницей-авангардисткой Софьей Дымшиц.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Предмет этой книги — искусство Бродского как творца стихотворений, т. е. самодостаточных текстов, на каждом их которых лежит печать авторского индивидуальности. Из шестнадцати представленных в книге работ западных славистов четырнадцать посвящены отдельным стихотворениям. Наряду с подробным историко-культурными и интертекстуальными комментариями читатель найдет здесь глубокий анализ поэтики Бродского. Исследуются не только характерные для поэта приемы стихосложения, но и такие неожиданные аспекты творчества, как, к примеру, использование приемов музыкальной композиции.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Эта книга удивительна тем, что принадлежит к числу самых последних более или менее полных исследований литературного творчества Толкиена — большого писателя и художника. Созданный им мир - своего рода Зазеркалье, вернее, оборотная сторона Зеркала, в котором отражается наш, настоящий, мир во всех его многогранных проявлениях. Главный же, непреложный закон мира Толкиена, как и нашего, или, если угодно, сила, им движущая, — извечное противостояние Добра и Зла. И то и другое, нетрудно догадаться, воплощают в себе исконные обитатели этого мира, герои фантастические и вместе с тем совершенно реальные: с одной стороны, доблестные воители — хоббиты, эльфы, гномы, люди и белые маги, а с другой, великие злодеи — колдуны со своими приспешниками.Чудесный свой мир Толкиен создавал всю жизнь.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Книга известного литературоведа посвящена исследованию самоубийства не только как жизненного и исторического явления, но и как факта культуры. В работе анализируются медицинские и исторические источники, газетные хроники и журнальные дискуссии, предсмертные записки самоубийц и художественная литература (романы Достоевского и его «Дневник писателя»). Хронологические рамки — Россия 19-го и начала 20-го века.

В книге делается попытка подвергнуть существенному переосмыслению растиражированные в литературоведении канонические представления о творчестве видных английских и американских писателей, таких, как О. Уайльд, В. Вулф, Т. С. Элиот, Т. Фишер, Э. Хемингуэй, Г. Миллер, Дж. Д. Сэлинджер, Дж. Чивер, Дж. Апдайк и др. Предложенное прочтение их текстов как уклоняющихся от однозначной интерпретации дает возможность читателю открыть незамеченные прежде исследовательской мыслью новые векторы литературной истории XX века.

В книге рассматриваются индивидуальные поэтические системы второй половины XX — начала XXI века: анализируются наиболее характерные особенности языка Л. Лосева, Г. Сапгира, В. Сосноры, В. Кривулина, Д. А. Пригова, Т. Кибирова, В. Строчкова, А. Левина, Д. Авалиани. Особое внимание обращено на то, как авторы художественными средствами исследуют свойства и возможности языка в его противоречиях и динамике.Книга адресована лингвистам, литературоведам и всем, кто интересуется современной поэзией.

Если рассматривать науку как поле свободной конкуренции идей, то закономерно писать ее историю как историю «победителей» – ученых, совершивших большие открытия и добившихся всеобщего признания. Однако в реальности работа ученого зависит не только от таланта и трудолюбия, но и от места в научной иерархии, а также от внешних обстоятельств, в частности от политики государства. Особенно важно учитывать это при исследовании гуманитарной науки в СССР, благосклонной лишь к тем, кто безоговорочно разделял догмы марксистско-ленинской идеологии и не отклонялся от линии партии.