Хроники: из дневника переводчика - [5]
Он собрал группу опытных переводчиков… и спросил у меня, шестнадцатилетнего: «Хочешь переводить Пушкина?». Я принялся за дело. Я ничего не умел, не понимал, не видел. Но внезапно в моем мире началось какое-то шевеление, что-то стало мне приоткрываться — я начал учиться. А ученик я никудышный: все, что могу, усваиваю в одну секунду, а чего за секунду не могу, того не усвою никогда, и пытаться не стоит. И вдруг, вы только представьте, на меня, шестнадцатилетнего, семнадцатилетнего; обрушивается сразу столько всего… Это он научил меня читать — я имею в виду читать текст. Это он научил меня законам метрики, русской и французской. Он давал мне переводить небольшие стихотворения Пушкина, и я переделывал их по двадцать раз, не теряя энтузиазма, и оказалось, что, когда с меня спрашивают много и без поблажек, я работаю с удовольствием и изо всех сил. А потом он предложил мне другие стихотворения, длинные… Мы отбрасывали десятки, без преувеличения, черновых вариантов, а потом мои переводы этих стихов были опубликованы в 1981 году в «L’Age d’Homme»; много позже я заново переработал их для вышедшей в 2011 году книги «Солнце Александра».
Сегодня скажу, что этот том в «L’Age d’Homme» был ужасен, за очень немногими исключениями (например, переводы Вардана Чимишкяна из куртуазной поэзии или несколько баллад в переводе Владимира Береловича), но для меня все началось именно с него.
Хотя нет. На самом деле, все началось не с книги. Вначале Эткинд приходил к нам в гости и подолгу со мной, еще ребенком, говорил, как со взрослым, в моей комнате, — говорил, рассказывал. Он знал наизусть сотни стихотворений — я не преувеличиваю. Вы не представляете себе, что это было, — слушать, как он читает Пастернака и объясняет мне не только контекст, но и стилистические оттенки каждого слова. А разбирая мои переводы, он был неумолим. И я знал: никаких поблажек мне не будет, потому что это было бы несправедливо. Пока не найдется то самое выражение, пока оно не встанет точно на свое место (а это чувствуешь сразу, в тот же миг), пока слова не свяжутся воедино — остановиться не имеешь права.
По-моему, я помню каждый разговор, каждый час, который мы провели вместе. Я был просто зачарован.
Как все на свете, я в жизни ссорился с людьми. Бывало, что доходило до разрыва отношений. Но по-настоящему я разошелся только с одним человеком — с ним.
12 октября 2013
Эткинд, продолжение
Он появлялся у меня в комнате. Садился в кресло, а я на кровать. И начинал рассказывать. Он брал стихотворения, которые я переводил, и подробно их разбирал — я видел его карандашные пометки на полях, вычеркнутые куски, вопросительные и восклицательные знаки. Иногда попадалось «Оч. хорошо!», и он говорил мне, что я нашел то, что нужно. Что это было — теперь я уже не вспомню, но тогда я и сам чувствовал, что нашел точную формулу, слово, фразу, стих, приближающие меня к оригиналу. Я это видел, и это была жизнь. А потом он читал мне стихи. Он помнил наизусть всю русскую поэзию! И каждое стихотворение было, как сказал Мандельштам, — «ворованный воздух».
Я мог бы рассказать о его встречах с Ахматовой, о том, как он читал наизусть Мандельштама, Заболоцкого, Пастернака, о его разговорах с Бродским (которого он яростно защищал во время суда и с которым очень дружил). Однажды он начал читать мне стихи одного поэта, которого, вероятно, никто, кроме него, не помнил, потому что ни одно его стихотворение не было опубликовано[2]. Он резко сжал кулаки (о Господи, он был очень высокий, крупный, и кулаки у него были огромные) и начал отбивать в воздухе ритм, скандируя: «Вниз головой! Вниз головой! Грызть кукурузу мостовой!» — это было поразительно. Автора этих двух строк звали Алик Ривин.
У них была общая молодость, они дружили в предвоенном Ленинграде, но Алик Ривин не был студентом. Это был человек одинокий, с легкой безуминкой, никто не знал, где он живет — чуть ли не на улице, а чтобы прокормиться, говорил Эткинд, он ловил бродячих кошек и продавал их в лаборатории на опыты или являлся к его, Эткинда, учителю, профессору Гуковскому (воспитавшему таких ученых, как Юрий Лотман, Илья Серман и многих других); это был один из лучших исследователей обожаемого мной русского романтизма; в 1950 году он умер в московской тюрьме Лефортово. Алик Ривин являлся к нему, усаживался на пол, протягивал руку и с еврейским акцентом изрекал: «Дайте рубель», а потом принимался кричать нараспев стихи, полные невероятной силы и яростного напора, — в них цитаты из самой высокой романтической поэзии были перемешаны со строчками из Пастернака, из эстрадных песенок, с ругательствами на идиш, полными образов, сошедших прямо с картин Шагала. Он размахивал рукой, и это было страшно, говорил Эткинд, потому что кисть руки была изувечена. Ему раздробил пальцы какой-то станок на заводе. Алик Ривин внушал страх, и он был грандиозен.
Читал мне Эткинд и другие его стихи. Например, написанные в самом начале войны, когда все молодые люди уходили на фронт, а он, Алик Ривин, остался в Ленинграде и бесследно исчез — должно быть, умер в блокаду.

Наталья Алексеевна Решетовская — первая жена Нобелевского лауреата А. И. Солженицына, член Союза писателей России, автор пяти мемуарных книг. Шестая книга писательницы также связана с именем человека, для которого она всю свою жизнь была и самым страстным защитником, и самым непримиримым оппонентом. Но, увы, книге с подзаголовком «Моя прижизненная реабилитация» суждено было предстать перед читателями лишь после смерти ее автора… Книга раскрывает мало кому известные до сих пор факты взаимоотношений автора с Агентством печати «Новости», с выходом в издательстве АПН (1975 г.) ее первой книги и ее шествием по многим зарубежным странам.

«Вечный изгнанник», «самый знаменитый тунеядец», «поэт без пьедестала» — за 25 лет после смерти Бродского о нем и его творчестве сказано так много, что и добавить нечего. И вот — появление такой «тарантиновской» книжки, написанной автором следующего поколения. Новая книга Вадима Месяца «Дядя Джо. Роман с Бродским» раскрывает неизвестные страницы из жизни Нобелевского лауреата, намекает на то, что реальность могла быть совершенно иной. Несмотря на авантюрность и даже фантастичность сюжета, роман — автобиографичен.

История всемирной литературы — многотомное издание, подготовленное Институтом мировой литературы им. А. М. Горького и рассматривающее развитие литератур народов мира с эпохи древности до начала XX века. Том V посвящен литературе XVIII в.

Опираясь на идеи структурализма и русской формальной школы, автор анализирует классическую фантастическую литературу от сказок Перро и первых европейских адаптаций «Тысячи и одной ночи» до новелл Гофмана и Эдгара По (не затрагивая т. наз. орудийное чудесное, т. е. научную фантастику) и выводит в итоге сущностную характеристику фантастики как жанра: «…она представляет собой квинтэссенцию всякой литературы, ибо в ней свойственное всей литературе оспаривание границы между реальным и ирреальным происходит совершенно эксплицитно и оказывается в центре внимания».

Главное управление по охране государственных тайн в печати при Совете Министров СССР (Главлит СССР). С выходом в свет настоящего Перечня утрачивает силу «Перечень сведений, запрещенных к опубликованию в районных, городских, многотиражных газетах, передачах по радио и телевидении» 1977 года.

Эта книга – вторая часть двухтомника, посвященного русской литературе двадцатого века. Каждая глава – страница истории глазами писателей и поэтов, ставших свидетелями главных событий эпохи, в которой им довелось жить и творить. Во второй том вошли лекции о произведениях таких выдающихся личностей, как Пикуль, Булгаков, Шаламов, Искандер, Айтматов, Евтушенко и другие. Дмитрий Быков будто возвращает нас в тот год, в котором была создана та или иная книга. Книга создана по мотивам популярной программы «Сто лекций с Дмитрием Быковым».
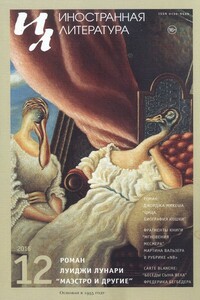
В поэтической рубрике — подборка стихотворений финской поэтессы Ээвы Килпи в переводе Марины Киеня-Мякинен, вступление ее же.
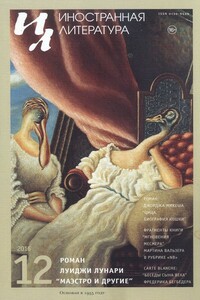
В продолжение авторской рубрики писателя и математика Александра Мелихова (1947) «Национальные культуры и национальные психозы» — очередное эссе «Второсортные европейцы и коллективные Афины». Главная мысль автора неизменна: «Сделаться субъектами истории малые народы могут исключительно на творческим поприще». Героиня рубрики «Ничего смешного» американка Дороти Паркер (1893–1967), прославившаяся, среди прочего, ядовитым остроумием. «ИЛ» публикует три ее рассказа и несколько афоризмов в переводе Александра Авербуха, а также — эссе о ней нашего постоянного обозревателя американской литературы Марины Ефимовой. В разделе «Пересечение культур» литературовед и переводчик с английского Александр Ливергант (1947) рассказывает о пяти английских писателях, «приехавших в сентябре этого года в Ясную Поляну на литературный семинар, проводившийся в рамках Года языка и литературы Великобритании и России…» Рубрика «БиблиофИЛ».

В рубрике «NB» — фрагменты книги немецкого прозаика и драматурга Мартина Вальзера (1927) «Мгновения Месмера» в переводе и со вступлением Наталии Васильевой. В обращении к читателям «ИЛ» автор пишет, что некоторые фразы его дневников не совпадают с его личной интонацией и как бы напрашиваются на другое авторство, от лица которого и написаны уже три книги.

Открывается номер небольшим романом итальянского писателя, театроведа и музыкального критика Луиджи Лунари (1934) «Маэстро и другие» в переводе Валерия Николаева. Главный режиссер знаменитого миланского театра, мэтр и баловень славы, узнает, что технический персонал его театра ставит на досуге своими силами ту же пьесу, что снискала некогда успех ему самому. Уязвленное самолюбие, ревность и проч. тотчас дают о себе знать. Некоторое сходство с «Театральным романом» Булгакова, видимо, объясняется родством закулисной атмосферы на всех широтах.