Хроники: из дневника переводчика - [7]
И, думается, мне есть что об этом рассказать. Только так, в сущности, я и могу рассказать о себе. На самом деле даже не о себе — о пути, по которому шел.
С самого отрочества, с тех пор как стал работать с Ефимом Эткиндом, я, само собой, страстно увлекался Пушкиным. Хотя это глупо: что значит «страстно увлекался»? Как будто было хоть одно мгновение, когда Пушкина не было в моей жизни. На самом деле — и это верно для всех, кто вырос в России — он, так или иначе, все детство с вами, всю жизнь. Но в какой-то момент мне выдалось счастье взглянуть словно бы со стороны на то, что всегда жило внутри меня, — и помечтать, что могу как-то распространить это, почувствовать глубже, сделать совсем своим. Работать над стихами Пушкина… Помню, как Ефим Эткинд предложил мне перевести на пробу два стихотвореньица Пушкина, две «антологические эпиграммы», и как я на ощупь к ним пробивался. Как инстинктивно, блуждая наугад, почему-то попытался сперва перевести их александринами, хотя в оригинале был эквивалент нашего восьмисложника. И как Эткинд сказал, что нужно всё переделать — полностью. А потом попросил меня перевести стихотворение, которого я вообще не знал, причем очень длинное, «Наполеон», написанное в 1821 году, когда Пушкин получил известие о его смерти. И помню, как я барахтался, не зная, с чего начать, — я, в сущности, не умел читать текст. И десятки раз, буквально десятки раз, начинал все сначала. Строго говоря, это стихотворение сопровождало меня всю жизнь. До его публикации в «L’Age d’Homme» в 1981 году я сделал около двадцати вариантов. И с самого момента публикации — постоянное чувство, что это не то и что все, что я сделал, никуда не годится. И я все время чувствовал потребность попробовать еще раз. Так было с «Наполеоном», то же самое было и со вторым длинным стихотворением «Разговор книгопродавца с поэтом»… (Новые, хотя и не окончательные версии этих двух стихотворений я напечатал в «Солнце Александра».) И с «Разговором…» было то же самое: Эткинд попросил меня его перевести, а потом опять разбирал со мной каждую строчку, и правил, и предлагал варианты. А ведь были еще наши собрания у него дома. Мы — это группа переводчиков, которых собрал и возглавил Эткинд. Блистательные переводчики — технических трудностей для них не существовало. Я слушал, как Вардан Чимишкян читает свои переводы шутливых стихотворений Пушкина, и я изумлялся их легкости и виртуозности. Помню, как Владимир Берелович читал свой перевод «Утопленника» и как мне было радостно слушать. Помню Дмитрия Сеземанна, очень высокого и худого пожилого господина, — я был потрясен изяществом его голоса, его языка. Нет, не изяществом даже — утонченностью. Было в нем что-то от английского лорда, а ведь этот аристократизм интонации — самая основа пушкинской поэзии… А Клод Эрну читал лирику. А Сато Чимишкян, сестра Вардана, переводила сказки… Правило у нас было такое: каждый приходил со своим переводом, читал, а остальные критиковали, поправляли, предлагали замены, и в этом было, по-моему, и соперничество, и радость совместного усилия — мне было семнадцать лет, и я это обожал.
До сих пор страдавший отроческой болезнью, равнодушием, — как я теперь радовался, когда меня критиковали, говорили, что все надо переделать, как я был рад учиться. Я вдруг почувствовал себя на своем месте. Я набрел на свой путь еще до того, как начал его искать. И этот путь был — перевод.
У меня не было ни тени сомнения.
Так озаглавил Мишель Курно свою статью в «Монд», посвященную первому в моей жизни провалу, изумительному спектаклю по пьесе Лермонтова «Маскарад», поставленному Анатолием Васильевым в «Комеди Франсез» в мае 1992 года. Работа над спектаклем проходила в страшной спешке. Васильев впервые столкнулся с тем, как ставят пьесы в «Комеди Франсез», ему некогда было работать так, как он привык, он едва успевал, по его выражению, «разводить по местам» актеров. А актеры принимали в штыки все его попытки заняться с ними «этюдами», то есть творческими импровизациями, которые должны были им помочь решить для себя, как двигаться на сцене: они хотели, чтобы он, по примеру других, навязывал каждому его место на сцене и говорил, куда идти. А он требовал от них другого. До сих пор не могу вспоминать без волнения, как вцепился в роль Арбенина Жан-Люк Бутте… которого Васильев заставил сыграть его собственное физическое разрушение (к тому времени Жан-Люк Бутте мог ходить уже только на костылях). В начале он играл стоя, не двигался или почти не двигался, можно было подумать, что с ним все в порядке; потом мы видели, как он опирается на костыли, а в конце он появлялся в инвалидном кресле. Он сам приводил в движение это кресло, раскатывал в нем задом наперед, не глядя, между стеклянными арками декораций, с такой ловкостью, такой силой и такой змеиной гибкостью, что глаз не отвести. А Нину играла Валери Древиль, у которой вся жизнь переменилась благодаря этому спектаклю. Она каждую минуту использовала, чтобы еще чему-то научиться, и вся без остатка ушла в поиск точного сценического образа — воздушного и в то же время телесного… И Катрин Сальвиа, и Дидье Бьенэме (в 2004 году он умер совсем молодым!), и Жан Дотреме в роли Маски; в день премьеры он сыграл в последней сцене без единой репетиции, потому что дата была назначена, а во Франции премьер не откладывают. И Ришар Фонтана… он умер через два дня после этой премьеры…

Первая треть XIX века отмечена ростом дискуссий о месте женщин в литературе и границах их дозволенного участия в литературном процессе. Будет известным преувеличением считать этот период началом становления истории писательниц в России, но большинство суждений о допустимости занятий женщин словесностью, которые впоследствии взяли на вооружение критики 1830–1860‐х годов, впервые было сформулированы именно в то время. Цель, которую ставит перед собой Мария Нестеренко, — проанализировать, как происходила постепенная конвенционализация участия женщин в литературном процессе в России первой трети XIX века и как эта эволюция взглядов отразилась на писательской судьбе и репутации поэтессы Анны Петровны Буниной.

Для современной гуманитарной мысли понятие «Другой» столь же фундаментально, сколь и многозначно. Что такое Другой? В чем суть этого феномена? Как взаимодействие с Другим связано с вопросами самопознания и самоидентификации? В разное время и в разных областях культуры под Другим понимался не только другой человек, с которым мы вступаем во взаимодействие, но и иные расы, нации, религии, культуры, идеи, ценности – все то, что исключено из широко понимаемой общественной нормы и находится под подозрением у «большой культуры».

Биография Джоан Роулинг, написанная итальянской исследовательницей ее жизни и творчества Мариной Ленти. Роулинг никогда не соглашалась на выпуск официальной биографии, поэтому и на родине писательницы их опубликовано немного. Вся информация почерпнута автором из заявлений, которые делала в средствах массовой информации в течение последних двадцати трех лет сама Роулинг либо те, кто с ней связан, а также из новостных публикаций про писательницу с тех пор, как она стала мировой знаменитостью. В книге есть одна выразительная особенность.

Лидия Гинзбург (1902–1990) – автор, чье новаторство и место в литературном ландшафте ХХ века до сих пор не оценены по достоинству. Выдающийся филолог, автор фундаментальных работ по русской литературе, Л. Гинзбург получила мировую известность благодаря «Запискам блокадного человека». Однако своим главным достижением она считала прозаические тексты, написанные в стол и практически не публиковавшиеся при ее жизни. Задача, которую ставит перед собой Гинзбург-прозаик, – создать тип письма, адекватный катастрофическому XX веку и новому историческому субъекту, оказавшемуся в ситуации краха предыдущих индивидуалистических и гуманистических систем ценностей.

В книге собраны воспоминания об Антоне Павловиче Чехове и его окружении, принадлежащие родным писателя — брату, сестре, племянникам, а также мемуары о чеховской семье.

Поэзия в Китае на протяжении многих веков была радостью для простых людей, отрадой для интеллигентов, способом высказать самое сокровенное. Будь то народная песня или стихотворение признанного мастера — каждое слово осталось в истории китайской литературы.Автор рассказывает о поэзии Китая от древних песен до лирики начала XX века. Из книги вы узнаете о главных поэтических жанрах и стилях, известных сборниках, влиятельных и талантливых поэтах, группировках и течениях.Издание предназначено для широкого круга читателей.
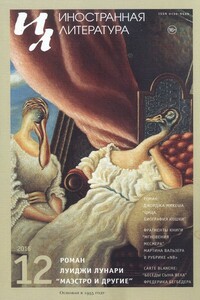
В поэтической рубрике — подборка стихотворений финской поэтессы Ээвы Килпи в переводе Марины Киеня-Мякинен, вступление ее же.
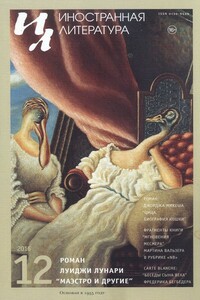
В продолжение авторской рубрики писателя и математика Александра Мелихова (1947) «Национальные культуры и национальные психозы» — очередное эссе «Второсортные европейцы и коллективные Афины». Главная мысль автора неизменна: «Сделаться субъектами истории малые народы могут исключительно на творческим поприще». Героиня рубрики «Ничего смешного» американка Дороти Паркер (1893–1967), прославившаяся, среди прочего, ядовитым остроумием. «ИЛ» публикует три ее рассказа и несколько афоризмов в переводе Александра Авербуха, а также — эссе о ней нашего постоянного обозревателя американской литературы Марины Ефимовой. В разделе «Пересечение культур» литературовед и переводчик с английского Александр Ливергант (1947) рассказывает о пяти английских писателях, «приехавших в сентябре этого года в Ясную Поляну на литературный семинар, проводившийся в рамках Года языка и литературы Великобритании и России…» Рубрика «БиблиофИЛ».

В рубрике «NB» — фрагменты книги немецкого прозаика и драматурга Мартина Вальзера (1927) «Мгновения Месмера» в переводе и со вступлением Наталии Васильевой. В обращении к читателям «ИЛ» автор пишет, что некоторые фразы его дневников не совпадают с его личной интонацией и как бы напрашиваются на другое авторство, от лица которого и написаны уже три книги.

Открывается номер небольшим романом итальянского писателя, театроведа и музыкального критика Луиджи Лунари (1934) «Маэстро и другие» в переводе Валерия Николаева. Главный режиссер знаменитого миланского театра, мэтр и баловень славы, узнает, что технический персонал его театра ставит на досуге своими силами ту же пьесу, что снискала некогда успех ему самому. Уязвленное самолюбие, ревность и проч. тотчас дают о себе знать. Некоторое сходство с «Театральным романом» Булгакова, видимо, объясняется родством закулисной атмосферы на всех широтах.