Хроники: из дневника переводчика - [8]
Люди в зале вопили, что им ничего не слышно (они и не могли ничего услышать, пока вопили), сломали несколько кресел, из разных концов зала неслась брань, унижавшая не столько участников спектакля, сколько самих крикунов, — и пресса высказалась о спектакле с полным единодушием… Все были согласны, что это абсолютная катастрофа; пощадили разве что Валери Древиль и Жан-Люка Бутте, которые, мол, безропотно пали жертвой безумца, тщеславного дурака… одним словом, чужака, иностранца. Получив пресс-релиз, я прочел все это примерно в двух сотнях откликов, то крупным шрифтом, то мелким, с фотографиями и без. Постановка провальная, потому что Васильев — бездарность. Но в разгроме было виновно еще одно лицо — я.
Я был виновен в том, что мой текст представляет собой «скверные стишки», что мой перевод смехотворен. Он неуклюж, он то витиеват, то «слишком осовременен», то непонятен. И прочее в том же духе. Это тоже повторялось в двухстах рецензиях. Конечно, публика на премьере ничего не поняла, но главное — теперь, почти четверть века спустя, я могу это сказать, — статья Курно меня очень задела потому, что он был прав: я действительно не был своим в этих стенах. В доме Мольера я был чужим.
Как это понимать? Неужели я в самом деле чужой в «Комеди Франсез», куда пришел по приглашению Антуана Витеза[5] и где участвовал в лучших спектаклях, из которых «Маскарад» был первым (и я до сих пор горжусь этой работой больше, чем многими другими)? Нет, конечно. В «Комеди Франсез» я никогда не чувствую себя чужим. Я горжусь, что мне довелось участвовать в историческом моменте в жизни этого великого театра, который без преувеличения можно назвать одним из символов Франции. Уж не говорю о том, что дружу с многими актерами «Комеди Франсез», нынешними и бывшими, но речь здесь не о моих личных ощущениях. Речь о другом.
Я чужой в доме Мольера. Я чужд французской литературной традиции. Чужд французской традиции перевода.
А все потому, что перевел рифмованными стихами «Маскарад» Лермонтова, драму, написанную в 1835 году рифмованными стихами. Причем перевел не александринами, то есть не тем стихом, который французская публика могла с грехом пополам узнать и признать, а тем, которым эта пьеса написана, то есть рифмованным вольным ямбом (между прочим, так написан «Амфитрион» Мольера, где чередуются строчки самой разной длины). Мало того что я соблюдал систему стиха — я еще и воссоздавал различные стили, присутствующие в пьесе. Местами она выдержана в романтической эстетике, а другие места, тоже рифмованные, написаны разговорным языком, иной раз даже с элементами просторечия. То есть Лермонтов, следуя за Грибоедовым с его «Горем от ума», подхватил французскую форму (форму мифологических комедий Мольера, таких как «Психея», «Амфитрион») и обошелся с ней по-шекспировски, опираясь в одном и том же тексте на разные стилистические пласты и не оставляя камня на камне от прежнего, традиционного, поэтического языка.
Я предупреждал Васильева, что моя манера перевода явно выпадает из французской традиции и, скорее всего, собьет с толку публику. Он ответил, что это остается полностью на мое усмотрение, а ему нужно только, чтобы главные слова, те, на которых покоится система образов, оказались именно на тех местах, где они стоят в оригинале: ему нужно было, ориентируясь на русский текст, наметить для актеров основные ритмические акценты. И я могу поручиться, что после множества попыток и переделок мой перевод с этой точки зрения оказался совершенно точен. Но это опять-таки абсолютно никого не интересовало. Важно было то, что текст, который произносили актеры, для публики и для них самих был лишен какой бы то ни было исторической основы, ни с чем не связывался. Никто так не делал.
Эффект от моего перевода в сочетании со «странностями» постановки был подобен взрыву.
Добавлю, что осенью, когда схлынула толпа обладателей абонементов в тогдашнюю «Комеди Франсез» — которые, конечно, к такому театру не привыкли, — спектакль возобновили для настоящей публики, и это был триумф. Заодно и мой текст приняли — никто никогда его больше не трепал…
И всё же…
Дело в том, что в доме Мольера я оказался чем-то вроде подкидыша. Я не французский переводчик, я уже об этом говорил. Для меня важно, что, согласно русской традиции, а также немецкой, польской, чешской и множеству других, невозможно отрывать форму от всего остального: нельзя перевести стихотворение, не передав тем или иным способом его форму, потому что форма, по самой своей сути, есть неотъемлемая часть его смысла. Русская литература и, к примеру (пускай и по-другому), немецкая, построены на усвоении не только самих произведений и тематики иноязычных писателей, но и форм, в которых эти писатели работали. Пушкин — опять Пушкин! — использовал все известные ему формы европейской литературы, решительно все, в родную литературу их вводили также такие поэты, как Николай Гнедич и Василий Жуковский.
Гнедич был эллинистом. Перевод «Илиады» стал делом всей его жизни, и в течение нескольких лет он переводил ее по образцу французских эпических поэм XVII и XVIII веков, рифмованным александрийским стихом. А потом внезапно остановился и все начал сначала, и стал искать пути перевода гекзаметром, взяв за образец гекзаметр немецкий; на то, чтобы разработать русский гекзаметр, ушло у него двадцать лет. И до сих пор его перевод остается непревзойденным. Это безусловный шедевр. А Жуковский, страстно увлеченный немецкой поэзией, переложил на русский ритмы баллад Шиллера и Гёте, а потом открыл для себя стихотворные повествования английских романтиков, Вальтера Скотта и особенно Байрона, и вот он стал переводить Байрона — естественно, соблюдая байроновский размер, четырехстопный ямб (послуживший основой «Евгению Онегину» и другим поэмам Пушкина). В русской поэзии с каждой «акклиматизацией» нового иностранного стиха рождалась еще одна форма, открывалось еще одно направление. И шекспировские сонеты, которые появлялись на русском языке на протяжении всего XIX века (а в XX их перевел Маршак, а некоторые — Пастернак), и сонеты немецких поэтов Стефана Георге и Пауля Целана — все они имеют ритм и рифмы оригинала, имеют форму сонета. В России (о Германии сейчас говорить не стану) такой перевод — не гарантия успеха, а непременное условие. Если оно не выполняется, перевода просто не публикуют, это не имеет смысла. И дело тут не во владении техникой (хотя переводчику стихотворная техника необходима), это вообще другой принцип, на котором я выстроил, поверьте, всю мою жизнь: признать за иностранным, чужим миром право на существование — и быть благодарным этой чуждости за то, что у нее другие традиции и ориентиры, отличные от наших. И делать попытки тем или иным способом приблизиться к этому чужому миру, а не уподоблять его нашему.

Наталья Алексеевна Решетовская — первая жена Нобелевского лауреата А. И. Солженицына, член Союза писателей России, автор пяти мемуарных книг. Шестая книга писательницы также связана с именем человека, для которого она всю свою жизнь была и самым страстным защитником, и самым непримиримым оппонентом. Но, увы, книге с подзаголовком «Моя прижизненная реабилитация» суждено было предстать перед читателями лишь после смерти ее автора… Книга раскрывает мало кому известные до сих пор факты взаимоотношений автора с Агентством печати «Новости», с выходом в издательстве АПН (1975 г.) ее первой книги и ее шествием по многим зарубежным странам.

«Вечный изгнанник», «самый знаменитый тунеядец», «поэт без пьедестала» — за 25 лет после смерти Бродского о нем и его творчестве сказано так много, что и добавить нечего. И вот — появление такой «тарантиновской» книжки, написанной автором следующего поколения. Новая книга Вадима Месяца «Дядя Джо. Роман с Бродским» раскрывает неизвестные страницы из жизни Нобелевского лауреата, намекает на то, что реальность могла быть совершенно иной. Несмотря на авантюрность и даже фантастичность сюжета, роман — автобиографичен.

История всемирной литературы — многотомное издание, подготовленное Институтом мировой литературы им. А. М. Горького и рассматривающее развитие литератур народов мира с эпохи древности до начала XX века. Том V посвящен литературе XVIII в.

Опираясь на идеи структурализма и русской формальной школы, автор анализирует классическую фантастическую литературу от сказок Перро и первых европейских адаптаций «Тысячи и одной ночи» до новелл Гофмана и Эдгара По (не затрагивая т. наз. орудийное чудесное, т. е. научную фантастику) и выводит в итоге сущностную характеристику фантастики как жанра: «…она представляет собой квинтэссенцию всякой литературы, ибо в ней свойственное всей литературе оспаривание границы между реальным и ирреальным происходит совершенно эксплицитно и оказывается в центре внимания».

Главное управление по охране государственных тайн в печати при Совете Министров СССР (Главлит СССР). С выходом в свет настоящего Перечня утрачивает силу «Перечень сведений, запрещенных к опубликованию в районных, городских, многотиражных газетах, передачах по радио и телевидении» 1977 года.

Эта книга – вторая часть двухтомника, посвященного русской литературе двадцатого века. Каждая глава – страница истории глазами писателей и поэтов, ставших свидетелями главных событий эпохи, в которой им довелось жить и творить. Во второй том вошли лекции о произведениях таких выдающихся личностей, как Пикуль, Булгаков, Шаламов, Искандер, Айтматов, Евтушенко и другие. Дмитрий Быков будто возвращает нас в тот год, в котором была создана та или иная книга. Книга создана по мотивам популярной программы «Сто лекций с Дмитрием Быковым».
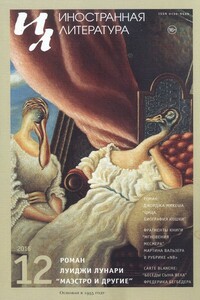
В поэтической рубрике — подборка стихотворений финской поэтессы Ээвы Килпи в переводе Марины Киеня-Мякинен, вступление ее же.
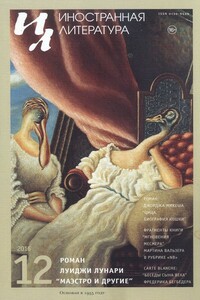
В продолжение авторской рубрики писателя и математика Александра Мелихова (1947) «Национальные культуры и национальные психозы» — очередное эссе «Второсортные европейцы и коллективные Афины». Главная мысль автора неизменна: «Сделаться субъектами истории малые народы могут исключительно на творческим поприще». Героиня рубрики «Ничего смешного» американка Дороти Паркер (1893–1967), прославившаяся, среди прочего, ядовитым остроумием. «ИЛ» публикует три ее рассказа и несколько афоризмов в переводе Александра Авербуха, а также — эссе о ней нашего постоянного обозревателя американской литературы Марины Ефимовой. В разделе «Пересечение культур» литературовед и переводчик с английского Александр Ливергант (1947) рассказывает о пяти английских писателях, «приехавших в сентябре этого года в Ясную Поляну на литературный семинар, проводившийся в рамках Года языка и литературы Великобритании и России…» Рубрика «БиблиофИЛ».

В рубрике «NB» — фрагменты книги немецкого прозаика и драматурга Мартина Вальзера (1927) «Мгновения Месмера» в переводе и со вступлением Наталии Васильевой. В обращении к читателям «ИЛ» автор пишет, что некоторые фразы его дневников не совпадают с его личной интонацией и как бы напрашиваются на другое авторство, от лица которого и написаны уже три книги.

Открывается номер небольшим романом итальянского писателя, театроведа и музыкального критика Луиджи Лунари (1934) «Маэстро и другие» в переводе Валерия Николаева. Главный режиссер знаменитого миланского театра, мэтр и баловень славы, узнает, что технический персонал его театра ставит на досуге своими силами ту же пьесу, что снискала некогда успех ему самому. Уязвленное самолюбие, ревность и проч. тотчас дают о себе знать. Некоторое сходство с «Театральным романом» Булгакова, видимо, объясняется родством закулисной атмосферы на всех широтах.