Хроники: из дневника переводчика - [3]
Каково ей было оказаться в этом чужом мире, в пригороде (это был благополучный, уютный пригород), где ничто не связывало ее с прежней жизнью; из нового была еще учеба. Мама — еврейка, поэтому в России она не могла поступить на филфак (я уже писал об этом подробнее в одной хронике), она приехала во Францию с дипломом педиатра, и внезапно оказалось, что у нее как будто вообще нет образования, ведь русские дипломы здесь силы не имели (а может, даже и сейчас не имеют?) — для получения права на работу врачом ей требовалось… пересдать экзамены на аттестат зрелости, что было не так-то просто хотя бы потому, что она никогда раньше не писала таких сочинений, как здесь положено, да еще на французском. Дело кончилось тем, что она пошла учиться в Сорбонну, на русский язык, а потом, не оставляя забот о нас, детях, сумела на чужом языке, с которым только начинала осваиваться, сдать конкурсный экзамен на замещение преподавательской должности, «agrégation», она сдала его с первого раза (причем, заняла второе место на конкурсе, где распределялось около сорока преподавательских постов, а уж сколько было кандидатов, я даже не знаю). Кажется, это был 1969 год. А в 1970-м (мне, значит, было 9 лет), она уже работала ассистентом или стажером-преподавателем в лицее Родена в Париже, и как-то раз — я, правда, не очень хорошо помню этот день — она взяла меня с собой на праздник в лицей, и ее ученики (их было много-много и, боже мой, какими они мне показались взрослыми!) произвели на меня невероятное впечатление — так они на нее смотрели. Это был школьный праздник или что-то вроде — я не хочу уточнять у мамы, мне достаточно того, что я помню «здесь и сейчас», я ведь и пытаюсь записать такие «воспоминания о воспоминаниях», — и все было как-то просто, по-доброму, чувствовались подъем и легкость. А я в то время был не то чтобы необщительным ребенком, но довольно замкнутым — то есть у меня было много приятелей, все как положено, но меня все меньше интересовало то, что происходило вокруг. Я жил в каком-то другом мире, в мире фантазий и памяти, которая приобретала не совсем здоровые черты: я запоминал наизусть любой текст, который хоть раз увидел. Это было чисто механическое явление, никак не связанное с живым интересом. Я запоминал даты (мог воспроизвести полностью династии английских и французских королей, перечислить римских императоров, велосипедистов, участвовавших в гонке «Тур де Франс», вообще запоминал все подряд). Мне в самом деле было все равно что запоминать, и делал я это, как мне кажется, просто чтобы отвлечься от мира, который меня окружал. Потому, наверно, что это был мир, где не хватало чего-то важного. И я понимал, чего в нем не хватает, и смирился. Я был не в Ленинграде, со мной не было бабушки и ее сестры, не было запахов и звуков настоящей жизни, вообще не было ничего настоящего. Здесь, в школе, я не то чтобы оказался в одиночестве, но как будто витал в ином мире, где реальность смешивалась с фантазиями и не было четкой границы между жизнью и грезами. И я чувствовал — если я вообще мог тогда чувствовать, — как трудно было маме пройти этот конкурс: при слове «агрегасьон» я до сих пор представляю себе ужасное испытание. И тут вдруг, наверное впервые, я увидел, что она преодолела эти испытания ради чего-то важного. Ученики ее обожали. И она была довольна. А мне тогда очень редко случалось видеть, чтобы она улыбалась и ей было на самом деле хорошо.
Итак, переехав во Францию, я сперва оставался бессловесным, а потом заговорил не хуже, чем французские дети, а русский как-то вдруг стал для меня иностранным — языком, на котором я говорил с акцентом или не говорил вовсе. Я его, конечно, понимал, но отлично помню, как мне было неловко, когда в шесть или семь лет, на каникулах, я открыл рот, услышал свой акцент и решил, что не скажу больше ни слова по-русски, что я забыл этот язык, а после каникул, когда вернулся в школу, в свой первый класс, случилось то же самое: первые десять минут я чувствовал, что говорю с акцентом и мои приятели заключили, ого, он разучился говорить, правда, уже через десять минут французский полностью вернулся, а русский, наоборот, улетучился. Но мама продолжала говорить со мной по-русски: скажет что-нибудь по-русски, я отвечаю по-французски, она снова по-русски, а я опять по-французски. И так продолжалось все мое детство. Те немногие письма, что я написал бабушкам, тоже были на французском.
Однажды я заговорил с ней по-русски. Я уже не помню, как это вышло, но я ответил ей на том же языке. И первая русская книга, которую я прочел во Франции, будучи подростком, была, как ни странно, «Мать» Горького. И после нее я уже читал по-русски.
Вспоминаю ее подруг: Анни Кац (у которой мы были в гостях в Ментоне, кажется, на зимних каникулах, и я открыл какой-то ящик — уже не помню, что я там искал, — и увидел желтую звезду, ту самую, которую носил ее отец); Анни Кац умерла от рака, и мама была с ней рядом и помогала ей до самого конца. Я помню Еву Мальре, которая всю свою жизнь посвятила Ефиму Эткинду и Цветаевой — до последнего дня, причем в буквальном смысле: за день до смерти она еще переводила. И с ней тоже мама оставалась рядом, помогала, поддерживала. Помню еще одну ее подругу, очень близкую, Марину Геген, у которой мама раз в неделю ночевала в городе Кан, потому что работу она в конце концов получила в Канском университете и два дня в неделю вела там занятия. Марина была старше моей мамы, она попала во Францию в конце войны из Германии, куда ее угнали на работу, и, по-моему, мама воспринимала ее в каком-то смысле как старшую сестру. Хотя на самом деле мама была единственным ребенком в семье и достаточно поздним: она появилась на свет, когда ее матери было 46 лет, в Сибири, как плод любви (о которой мне ничего не известно) с грузинским врачом, тоже ссыльным, по имени Диомид Лукич Мурванидзе; именно поэтому маму зовут Дареджан — как героиню поэмы грузинского национального поэта Шота Руставели… Дареджан Левис… А подруга Марина тоже умерла от рака.

Что отличает обычную историю от бестселлера? Автор этой книги и курсов для писателей Марта Олдерсон нашла инструменты для настройки художественных произведений. Именно им посвящена эта книга. Используя их, вы сможете создать запоминающуюся историю.

Герой эссе шведского писателя Улофа Лагеркранца «От Ада до Рая» – выдающийся итальянский поэт Данте Алигьери (1265–1321). Любовь к Данте – человеку и поэту – основная нить вдохновенного повествования о нем. Книга адресована широкому кругу читателей.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Сюжет новой книги известного критика и литературоведа Станислава Рассадина трактует «связь» государства и советских/русских писателей (его любимцев и пасынков) как неразрешимую интригующую коллизию.Автору удается показать небывалое напряжение советской истории, сказавшееся как на творчестве писателей, так и на их судьбах.В книге анализируются многие произведения, приводятся биографические подробности. Издание снабжено библиографическими ссылками и подробным указателем имен.Рекомендуется не только интересующимся историей отечественной литературы, но и изучающим ее.

Оригинальное творчество Стендаля привлекло внимание в России задолго до того, как появился его первый знаменитый роман – «Красное и черное» (1830). Русские журналы пушкинской эпохи внимательно следили за новинками зарубежной литературы и периодической печати и поразительно быстро подхватывали все интересное и актуальное. Уже в 1822 году журнал «Сын Отечества» анонимно опубликовал статью Стендаля «Россини» – первый набросок его книги «Жизнь Россини» (1823). Чем был вызван интерес к этой статье в России?Второе издание.

В 1838 году в третьем номере основанного Пушкиным журнала «Современник» появилась небольшая поэма под названием «Казначейша». Автором ее был молодой поэт, чье имя стало широко известно по его стихам на смерть Пушкина и по последующей его драматической судьбе — аресту, следствию, ссылке на Кавказ. Этим поэтом был Михаил Юрьевич Лермонтов.
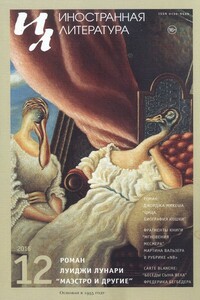
В поэтической рубрике — подборка стихотворений финской поэтессы Ээвы Килпи в переводе Марины Киеня-Мякинен, вступление ее же.
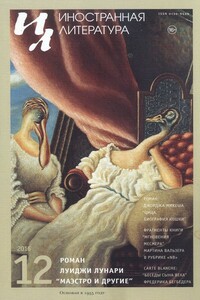
В продолжение авторской рубрики писателя и математика Александра Мелихова (1947) «Национальные культуры и национальные психозы» — очередное эссе «Второсортные европейцы и коллективные Афины». Главная мысль автора неизменна: «Сделаться субъектами истории малые народы могут исключительно на творческим поприще». Героиня рубрики «Ничего смешного» американка Дороти Паркер (1893–1967), прославившаяся, среди прочего, ядовитым остроумием. «ИЛ» публикует три ее рассказа и несколько афоризмов в переводе Александра Авербуха, а также — эссе о ней нашего постоянного обозревателя американской литературы Марины Ефимовой. В разделе «Пересечение культур» литературовед и переводчик с английского Александр Ливергант (1947) рассказывает о пяти английских писателях, «приехавших в сентябре этого года в Ясную Поляну на литературный семинар, проводившийся в рамках Года языка и литературы Великобритании и России…» Рубрика «БиблиофИЛ».

В рубрике «NB» — фрагменты книги немецкого прозаика и драматурга Мартина Вальзера (1927) «Мгновения Месмера» в переводе и со вступлением Наталии Васильевой. В обращении к читателям «ИЛ» автор пишет, что некоторые фразы его дневников не совпадают с его личной интонацией и как бы напрашиваются на другое авторство, от лица которого и написаны уже три книги.

Открывается номер небольшим романом итальянского писателя, театроведа и музыкального критика Луиджи Лунари (1934) «Маэстро и другие» в переводе Валерия Николаева. Главный режиссер знаменитого миланского театра, мэтр и баловень славы, узнает, что технический персонал его театра ставит на досуге своими силами ту же пьесу, что снискала некогда успех ему самому. Уязвленное самолюбие, ревность и проч. тотчас дают о себе знать. Некоторое сходство с «Театральным романом» Булгакова, видимо, объясняется родством закулисной атмосферы на всех широтах.