Хроники: из дневника переводчика - [4]
Я уже упоминал об этом мамином даре — хранить дружбу. У нее и в Петербурге остались подруги, которых она знает еще с начальной школы, где они вместе учились в первые послевоенные годы, а есть еще институтские друзья, с которыми она изучала медицину.
«Евгения Онегина» она знала наизусть всегда, еще со времен военного детства, но я помню, когда я поступил в лицей — это был лицей Ван Гога, в Эрмон-Обонне, потому что туда можно было добраться на поезде, — если она была свободна, она заезжала за мной на машине, и, пока ждала, повторяла «Онегина», сверяя с книгой, строфу за строфой. Она тогда возила с собой карманное издание, которое понемногу рассыпалось. А ее собственную книгу мы потеряли в Неаполе, когда ездили туда на каникулы, я был еще маленький. В нашу машину залезли воры. И чемодан, где была та книга, пропал. Мама возила ее с собой всюду, книгу ей подарила одна женщина, когда во время бомбежки мама читала отрывки из «Евгения Онегина» другим детям в поезде, который вез их из блокадного Ленинграда в эвакуацию, — и это их немного успокоило. Мне она никогда этой истории толком не рассказывала. Но я и сейчас отлично помню, как она понурилась, когда поняла, что книга исчезла.
Я помню, как она вообще ничего не сказала, когда Ефим Григорьевич Эткинд, которому она помогала сразу после его приезда во Францию (мне тогда было 16 лет), предложил мне вместе с ним переводить Пушкина. Лучше сказать, она ничем не дала понять, насколько ее это встревожило, и отец тоже не афишировал своих чувств. Вообразите, какое было бы разочарование, если бы у меня ничего не вышло. Но мама ничего мне не сказала. Просто в очередной раз была рядом, не мешая, предоставляя Эткинду беседовать со мной часами, и потихоньку мое безразличие к жизни улетучивалось, и все, как по мановению волшебной палочки, обретало смысл. На первую встречу переводчиков Пушкина, которая происходила дома у Эткинда (и где я был, конечно, намного младше всех остальных), она меня повезла на машине; по дороге мы чуть не попали в аварию, так она волновалась. А я, естественно, ничего не замечал. Во время этих встреч она ждала меня, пока я не освобожусь, общаясь с женой Ефима Григорьевича, Екатериной Федоровной, сидела в соседней комнате или на кухне, как было принято в СССР, и пила чай. Она ничем не выдавала своих эмоций, просто ждала. Она думала: а что, если все эти взрослые заклюют ее сыночка насмерть? Но почему-то не заклевали… И она смотрела, как я исправляю, переделываю, все начинаю заново. Она никогда меня не хвалила — и отец тоже. Просто была рядом и помалкивала.
Франсуаза читала все мои переводы, правила, предлагала варианты. Это тысячи часов работы. Я ей безмерно благодарен — и вы понимаете, это не просто слова. Никаких слов здесь не хватит.
Мама тоже читала все — и сверяла каждую строчку с русским текстом, а ведь она, бедная, терпеть не может Достоевского… Иногда, в самых безумных, самых бредовых местах у нее заканчивалось терпение, и я видел на полях своих переводов ее пометку: «псих!». Но, тем не менее, она вычитала все.
А потом, когда я перевел «Онегина», я пригласил ее читать со мной этот перевод — тогда Ален Франсон и Анн Коттерлаз предложили мне устроить такой вечер в театре «Ла Коллин». Мы провели это выступление вместе — мама читала (по памяти, без книги) русский текст, а я — по книге — французский. Я слушал ее голос, и мне казалось, что она читает лучше всех великих актеров (кстати, даже не знаю, читали ли великие актеры «Онегина»), она просто произносит текст, спокойно, ровно, она вообще не способна к какой бы то ни было актерской игре, но, пока она читала, я чувствовал, что переношусь куда-то — то есть я был тут, в театре, но одновременно она уводила меня в какой-то далекий мир, который я не умею описать, как будто очутился между прошлым и настоящим. Этот текст, прочитанный ее голосом, а потом моим, словно означал, что тот поезд, отходивший от перрона в Москве, наконец остановился. И это же чувство я испытал снова, когда в 2005 году Лора Адлер попросила меня устроить еще одно чтение «Онегина» в Ниме, для радиоканала «Франс-Кюльтюр», и договорились, что Франсуаза будет читать Татьяну, а мама — русский текст. Вместе с нами тогда работали Эрик Эльмоснино и Дени Подалидес, а режиссером той простенькой и очень светлой постановки была Маргерит Гато.
Мой отец умер ровно десять лет назад. Он еще успел нас послушать.
Есть еще один проект: вместе с издательством «Телем», наверно, мы осуществим его этой зимой — хотим записать всего «Онегина», русский текст будет читать мама, а французский — мы с Франсуазой.
4 октября 2013
Ефим Эткинд
У меня был учитель. Что такое учитель? есть, наверно, что-то такое, что передается от человека к человеку, от мастера к мастеру — не через книги, а на словах, в разговорах, в общей работе.
Мне было шестнадцать, и у меня была типичная для моего возраста болезнь: равнодушие. Ничто меня не интересовало. Мои мысли витали неизвестно где. Мама тогда была очень занята: она искала работу для Ефима Григорьевича Эткинда по разным университетам (конечно, этим занималась не только она). Это был один из самых одаренных переводчиков в том поколении, а главное — один из самых блистательных литературоведов и специалистов по теории перевода. Я буду о нем говорить еще много раз. Он родился в 1918 году и успел поучиться у выдающихся русских формалистов — у Тынянова, Жирмунского, Гуковского, он знал Шкловского, Оксмана, Бахтина — все то поколение, полностью преобразившее литературоведческую науку. Вместо того чтобы рассуждать о чувствах, они занялись композицией, структурой. Эткинд был среди тех, кто помогал отослать за рубеж рукопись «Архипелага ГУЛАГа», и КГБ поставил его перед очень простым выбором: на Восток (надо ли объяснять, что это значит?) или на Запад… Он выбрал Запад и оказался во Франции. А во Франции взял на себя подготовку тома стихотворений и поэм Пушкина, который должен был выйти в издательстве «L’Age d’Homme».

Что отличает обычную историю от бестселлера? Автор этой книги и курсов для писателей Марта Олдерсон нашла инструменты для настройки художественных произведений. Именно им посвящена эта книга. Используя их, вы сможете создать запоминающуюся историю.

Герой эссе шведского писателя Улофа Лагеркранца «От Ада до Рая» – выдающийся итальянский поэт Данте Алигьери (1265–1321). Любовь к Данте – человеку и поэту – основная нить вдохновенного повествования о нем. Книга адресована широкому кругу читателей.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Сюжет новой книги известного критика и литературоведа Станислава Рассадина трактует «связь» государства и советских/русских писателей (его любимцев и пасынков) как неразрешимую интригующую коллизию.Автору удается показать небывалое напряжение советской истории, сказавшееся как на творчестве писателей, так и на их судьбах.В книге анализируются многие произведения, приводятся биографические подробности. Издание снабжено библиографическими ссылками и подробным указателем имен.Рекомендуется не только интересующимся историей отечественной литературы, но и изучающим ее.

Оригинальное творчество Стендаля привлекло внимание в России задолго до того, как появился его первый знаменитый роман – «Красное и черное» (1830). Русские журналы пушкинской эпохи внимательно следили за новинками зарубежной литературы и периодической печати и поразительно быстро подхватывали все интересное и актуальное. Уже в 1822 году журнал «Сын Отечества» анонимно опубликовал статью Стендаля «Россини» – первый набросок его книги «Жизнь Россини» (1823). Чем был вызван интерес к этой статье в России?Второе издание.

В 1838 году в третьем номере основанного Пушкиным журнала «Современник» появилась небольшая поэма под названием «Казначейша». Автором ее был молодой поэт, чье имя стало широко известно по его стихам на смерть Пушкина и по последующей его драматической судьбе — аресту, следствию, ссылке на Кавказ. Этим поэтом был Михаил Юрьевич Лермонтов.
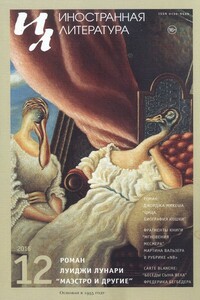
В поэтической рубрике — подборка стихотворений финской поэтессы Ээвы Килпи в переводе Марины Киеня-Мякинен, вступление ее же.
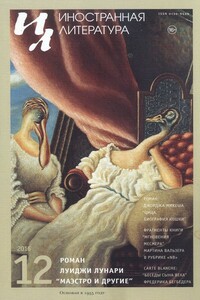
В продолжение авторской рубрики писателя и математика Александра Мелихова (1947) «Национальные культуры и национальные психозы» — очередное эссе «Второсортные европейцы и коллективные Афины». Главная мысль автора неизменна: «Сделаться субъектами истории малые народы могут исключительно на творческим поприще». Героиня рубрики «Ничего смешного» американка Дороти Паркер (1893–1967), прославившаяся, среди прочего, ядовитым остроумием. «ИЛ» публикует три ее рассказа и несколько афоризмов в переводе Александра Авербуха, а также — эссе о ней нашего постоянного обозревателя американской литературы Марины Ефимовой. В разделе «Пересечение культур» литературовед и переводчик с английского Александр Ливергант (1947) рассказывает о пяти английских писателях, «приехавших в сентябре этого года в Ясную Поляну на литературный семинар, проводившийся в рамках Года языка и литературы Великобритании и России…» Рубрика «БиблиофИЛ».

В рубрике «NB» — фрагменты книги немецкого прозаика и драматурга Мартина Вальзера (1927) «Мгновения Месмера» в переводе и со вступлением Наталии Васильевой. В обращении к читателям «ИЛ» автор пишет, что некоторые фразы его дневников не совпадают с его личной интонацией и как бы напрашиваются на другое авторство, от лица которого и написаны уже три книги.

Открывается номер небольшим романом итальянского писателя, театроведа и музыкального критика Луиджи Лунари (1934) «Маэстро и другие» в переводе Валерия Николаева. Главный режиссер знаменитого миланского театра, мэтр и баловень славы, узнает, что технический персонал его театра ставит на досуге своими силами ту же пьесу, что снискала некогда успех ему самому. Уязвленное самолюбие, ревность и проч. тотчас дают о себе знать. Некоторое сходство с «Театральным романом» Булгакова, видимо, объясняется родством закулисной атмосферы на всех широтах.