Хаос - [4]
Неимоверно приниженный, он пробирался на следующую встречу; слабым утешением было лишь то, что Шана разбиралась во всем этом не больше его. Они сошлись на том, что им попросту не хватает знания многих вещей, наличие которых поэт предполагал само собой разумеющимся. Этот господин Гёте явно видел своими читателями не невежд вроде них, принадлежащих к той толпе «непосвященных» из «Посвящения». Пока что перспектив на заполнение пробелов в знаниях не предвиделось; несмотря на это, оба заново храбро нырнули в штудирование произведения. И кое-кто сильно бы удивился, поприсутствуй он невидимо на этих «уроках Фауста».
Вот пастор Боде и удивился. Немало. А доктор Штрёссер — нисколько, хотя основательно рассердился.
Пастор Боде и старший преподаватель Штрёссер поднимались по скользкой тропе с речного берега на бульвар. Пастор бросил сокрушенный взгляд на свои брюки, недавно любовно отчищенные фрау Марией от последней пылинки, а сейчас выглядевшие плачевно. Старший преподаватель коротко хохотнул, уверенный в превосходстве своего положения, как каждый, на ком высокие резиновые сапоги, и принялся набивать трубку.
— Ах, господин пастор, здесь все иначе, чем в Пазевальке! Наверное, вам стоит все-таки отвыкнуть от ботиночек. — Он поднес зажженную спичку к головке трубки и, попыхивая, добавил: — И кое от чего еще!
Пастор Боде остановился и снял шляпу.
— «Кое о чем» можно будет поговорить, — несколько раздраженно откликнулся он. — Понимаю, что здесь мне предстоит окунуться в совершенно незнакомый мир и многое познать заново. А вот высокие сапоги придется купить в первую очередь. Выбраться из этой грязи — это надо еще постараться. Можем мы где-нибудь присесть?
— Да вон лавочка, — сказал шагавший впереди Штрёссер и удобно расположился на стоявшей в стороне от поросли скамье. — Да… Вот так сразу и показал вам русскую специфику. Здесь, наверху, прекрасный променад, который вдруг резко обрывается вниз, в тину, в грязь и болото. То же было и тридцать лет назад, когда я осел в этом углу. Россия — страна прекрасных возможностей, у которых нет продолжения. Во всех смыслах! Перефразируя русскую пословицу: лиха радость начало! Что же вы не присядете, пастор?
Пастор переминался с ноги на ногу и поправлял очки, с выражением неловкости на лице устремив взгляд в кусты.
— Ну… понимаете… — Он смущенно понизил голос. — Там, на аллее, сидит парочка… и я не хотел бы им мешать. Может, поищем другое местечко?
— Чего вы боитесь? — рассмеялся Штрёссер. — Помешать или самому попасть впросак? По-человечески, слишком по-человечески, господин пастор! — Он вывернул шею, чтобы бросить взгляд за живую изгородь, и пренебрежительно махнул рукой: — Садитесь спокойно. Под мою ответственность! Это всего лишь евреи!
— Что значит «всего лишь»?! — усаживаясь с некоторым колебанием, спросил Боде. — Для меня нет разницы. В этом отношении, я имею в виду.
— Нет, нет, это в любом отношении нечто иное. Вы сами заметите. Ну-ка, помолчите чуток!
Пастору все это было не по душе, однако он невольно застыл, явственно услыхав слово «Гёте», а следом до него донеслись обрывки стихов классика. Потом парочка пустилась в обсуждение, и уже не удавалось разобрать ни слова.
В волнении Боде схватил доктора за рукав:
— Послушайте! Они же читают «Фауста»!
Штрёссер равнодушно пускал дым.
— Определенно «Фауст»! Они читают «Фауста». Подумать только! — не унимался пастор.
Старший преподаватель откашлялся и смачно сплюнул.
— Дрянь! — весомо и хладнокровно констатировал он.
— Что вы говорите? — недоумевающе уставился на него Боде.
— Я говорю, что это отвратительно. Извращенные людишки!
— Кто извращенный? Не те же молодые люди, что читают здесь, в сумерках, нашего великого Гёте?!
— Ха, господин пастор! Вы по сравнению со мной юноша и ведь не старый холостяк. Так вспомните, как вы студентиком посиживали в саду с какой-нибудь девчонкой и что ей шептали в полутьме!
— Не сидел я ни с какими девчонками во тьме, — отрезал пастор.
— Ну, ладно. Не с какой-нибудь, а с фрейлейн Марией Лодеманн, теперешней фрау пасторшей Боде. Вы тогда тоже читали и комментировали «Фауста»?
— Позвольте не переходить на личности, господин доктор! Не хотите ли вы сказать…
— На кой черт, скажите мне, тот шалопай за кустами просто не обовьет шейку и не замнет свою подружку, как сделал бы любой балбес в Европе? Так нет же! Сидят там, портят себе глаза и препарируют Гёте! Пока, между прочим, замечу, не намудрствуются лукаво.
— Позвольте! Позвольте! С чего вы взяли? Может, сделали вывод из нескольких подслушанных слов? А эта инсинуация с «помять», ну, просто…
— Господин пастор, идиш, уж поверьте, я понимаю получше вас! Остальное, между прочим, тоже, хоть и старше вас…
— Вы сегодня настроены шутить?
— Я? Ни в коей мере! Такие людишки только отравляют мне чудный вечер. Думаете, эта парочка имеет хоть малейшее понятие о том, как он прекрасен? Думаете, они любуются бескрайними просторами и рекой? Нет! Мир для них заключен в книгах.

Это — роман. Роман-вхождение. Во времена, в признаки стремительно меняющейся эпохи, в головы, судьбы, в души героев. Главный герой романа — программист-хакер, который только что сбежал от американских спецслужб и оказался на родине, в России. И вместе с ним читатель начинает свое путешествие в глубину книги, с точки перелома в судьбе героя, перелома, совпадающего с началом тысячелетия. На этот раз обложка предложена издательством. В тексте бережно сохранены особенности авторской орфографии, пунктуации и инвективной лексики.
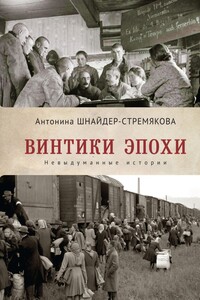
Повесть «Винтики эпохи» дала название всей многожанровой книге. Автор вместил в нее правду нескольких поколений (детей войны и их отцов), что росли, мужали, верили, любили, растили детей, трудились для блага семьи и страны, не предполагая, что в какой-то момент их великая и самая большая страна может исчезнуть с карты Земли.
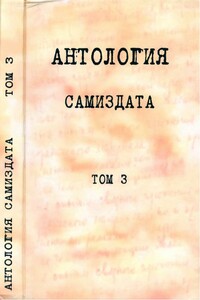
«Антология самиздата» открывает перед читателями ту часть нашего прошлого, которая никогда не была достоянием официальной истории. Тем не менее, в среде неофициальной культуры, порождением которой был Самиздат, выкристаллизовались идеи, оказавшие колоссальное влияние на ход истории, прежде всего, советской и постсоветской. Молодому поколению почти не известно происхождение современных идеологий и современной политической системы России. «Антология самиздата» позволяет в значительной мере заполнить этот пробел. В «Антологии» собраны наиболее представительные произведения, ходившие в Самиздате в 50 — 80-е годы, повлиявшие на умонастроения советской интеллигенции.

"... У меня есть собака, а значит у меня есть кусочек души. И когда мне бывает грустно, а знаешь ли ты, что значит собака, когда тебе грустно? Так вот, когда мне бывает грустно я говорю ей :' Собака, а хочешь я буду твоей собакой?" ..." Много-много лет назад я где-то прочла этот перевод чьего то стихотворения и запомнила его на всю жизнь. Так вышло, что это стало девизом моей жизни...

1995-й, Гавайи. Отправившись с родителями кататься на яхте, семилетний Ноа Флорес падает за борт. Когда поверхность воды вспенивается от акульих плавников, все замирают от ужаса — малыш обречен. Но происходит чудо — одна из акул, осторожно держа Ноа в пасти, доставляет его к борту судна. Эта история становится семейной легендой. Семья Ноа, пострадавшая, как и многие жители островов, от краха сахарно-тростниковой промышленности, сочла странное происшествие знаком благосклонности гавайских богов. А позже, когда у мальчика проявились особые способности, родные окончательно в этом уверились.

Самобытный, ироничный и до слез смешной сборник рассказывает истории из жизни самой обычной героини наших дней. Робкая и смышленая Танюша, юная и наивная Танечка, взрослая, но все еще познающая действительность Татьяна и непосредственная, любопытная Таня попадают в комичные переделки. Они успешно выпутываются из неурядиц и казусов (иногда – с большим трудом), пробуют новое и совсем не боятся быть «ненормальными». Мир – такой непостоянный, и все в нем меняется стремительно, но Таня уверена в одном: быть смешной – не стыдно.

Повесть Израиля Меттера «Пятый угол» была написана в 1967 году, переводилась на основные европейские языки, но в СССР впервые без цензурных изъятий вышла только в годы перестройки. После этого она была удостоена итальянской премии «Гринцана Кавур». Повесть охватывает двадцать лет жизни главного героя — типичного советского еврея, загнанного сталинским режимом в «пятый угол».

В книгу, составленную Асаром Эппелем, вошли рассказы, посвященные жизни российских евреев. Среди авторов сборника Василий Аксенов, Сергей Довлатов, Людмила Петрушевская, Алексей Варламов, Сергей Юрский… Всех их — при большом разнообразии творческих методов — объединяет пристальное внимание к внутреннему миру человека, тонкое чувство стиля, талант рассказчика.

Впервые на русском языке выходит самый знаменитый роман ведущего израильского прозаика Меира Шалева. Эта книга о том поколении евреев, которое пришло из России в Палестину и превратило ее пески и болота в цветущую страну, Эрец-Исраэль. В мастерски выстроенном повествовании трагедия переплетена с иронией, русская любовь с горьким еврейским юмором, поэтический миф с грубой правдой тяжелого труда. История обитателей маленькой долины, отвоеванной у природы, вмещает огромный мир страсти и тоски, надежд и страданий, верности и боли.«Русский роман» — третье произведение Шалева, вышедшее в издательстве «Текст», после «Библии сегодня» (2000) и «В доме своем в пустыне…» (2005).

Роман «Свежо предание» — из разряда тех книг, которым пророчили публикацию лишь «через двести-триста лет». На этом параллели с «Жизнью и судьбой» Василия Гроссмана не заканчиваются: с разницей в год — тот же «Новый мир», тот же Твардовский, тот же сейф… Эпопея Гроссмана была напечатана за границей через 19 лет, в России — через 27. Роман И. Грековой увидел свет через 33 года (на родине — через 35 лет), к счастью, при жизни автора. В нем Елена Вентцель, русская женщина с немецкой фамилией, коснулась невозможного, для своего времени непроизносимого: сталинского антисемитизма.