Фотографическое: опыт теории расхождений - [70]
Но существуют, разумеется, и другие пути переосмысления фотографии. Возвращаясь к «Camera lucida», отметим цель, которой подчиняет свой мифотворческий рассказ о фотографической науке Барт. В тот вечер когда ему на глаза попалась фотография матери, он, по собственному признанию, посмотрел фильм, в котором был автомат, чей танец с героем вызвал у него ощущение «любовной муки». Эту боль любви Барт сравнивает с безумием, характеризующим его новый подход к фотографии, в которой он видит «новую форму галлюцинации <…>, безумный образ, лишь тронутый реальностью». Автомат, двойник жизни и вместе с тем смерть, выступает эмблемой раны, власть нанести которую дана всякой фотографии, такому же удвоению и смерти: «Все эти молодые фотографы, что носятся по свету в поисках чего-нибудь злободневного, и не подозревают, что служат агентами Смерти <…>. Современница отказа от обрядов, фотография, быть может, отражает вторжение в современное общество некоей асимволической смерти, не связанной ни с религией, ни с обрядом, внезапное погружение в Смерть буквальную. Жизнь/ Смерть: эта парадигма сокращается до простого щелчка, разделяющего исходный кадр и конечный снимок»[227].
Этот простой щелчок – то же самое, что Бретон в свое время назвал неподвижным взрывом. Сочетание безумия и любви, характеризующее автоматическую куклу и сущность фотографии, которая, по словам Барта, «стала безумной», образующее момент «судорожной истины», является в самой своей странности, в самих своих судорогах родом безумной любви.
Нью-Йорк, 1984[228]
Когда слова исчезают
Формула, вынесенная мною в заголовок, была выбрана в качестве названия трехдневного коллоквиума, посвященного документации, освещению и, по крайней мере в проекте, изучению взлета фотографического творчества в Веймарской республике[229]. Организаторы обозначили с ее помощью перекличку с многочисленными декларациями немецких художников, интеллектуалов и пропагандистов, уверенных, что визуальность вскоре затмит язык. Разумеется, сразу вспоминается Мохой-Надь, утверждавший, что в будущем неграмотным станут считать не того, кто не умеет читать, а того, кто не умеет фотографировать. Но и Йоханнес Мольцан, заявлявший: «Фотоизображение будет одним из самых эффективных орудий противодействия интеллектуализации, механизации разума. Забудь о чтении! Смотри! – таков будет девиз образования. Забудь о чтении! Смотри! – такова будет главная установка прессы».
Вариантом этого «Забудь о чтении! Смотри!» кажется и наше «Когда слова исчезают». Забавно, что этот лозунг, направленный против письменности и во славу визуальной культуры, во всех анонсах и программах коллоквиума сопровождался фотографией руки, держащей карандаш и явно собирающейся вовсе не рисовать, а писать. Это «Автопортрет» Герберта Байера, сделанный в 1937 году. Возможно, с этой странной стыковки текста и образа, поставленной, между прочим, на службу анализу фотографической культуры, стоило бы начать обозрение заблуждений, что действуют в самой сердцевине нынешнего критического дискурса о фотографии. В самом деле, в решении иллюстрировать этой фотографией тему коллоквиума – «Когда слова исчезают» – путаница в отношении фотоизображения выявилась как нельзя более отчетливо.
49. Герберт Байер. Автопортрет. 1937. Желатинно– серебряная печать. 26,6 × 33,6 см
50. Эль Лисицкий. Конструктор (Автопортрет). 1924.
Желатинно-серебряная печать, фотомонтаж. 13,1 × 12 см. Опубликовано на обложке альбома «foto-auge» под редакцией Франца Роха и Яна Чихольда (1929)
Надо признать, что в работе Байера нет ничего особенно оригинального. Это одно из множества произведений 1920–1930-х годов, представляющих фотографа как некоего композитора линий, который пользуется рукой, орудием письма, чтобы наметить образ, создать его рисованный эскиз. Автопортрет Лисицкого (1924), один из элементов которого – все та же рука – был напечатан отдельно в альбоме «foto-auge»[230], опережает фотографию Байера более чем на десять лет. И так же, как в работах Байера и Лисицкого, чисто фотографическая светопись и символические линии, принадлежащие к совершенно иной системе знаков и представленные вместе с органом, их создавшим, – рукой человека, – наложены друг на друга в выполненной около 1925 года фотограмме Мохой-Надя. Это тройственное отношение, с одной стороны, между рукой и фотокамерой, а с другой – между рукой и письмом, Мохой-Надь еще четче выявил в сделанном на ее основе фотомонтаже для обложки журнала «Foto-Qualität»[231]. Художник-фотограф как человек «пишущий» и фотоаппарат как замена руки (то есть как орудие письма, а не моментального зрения) спокойно соседствуют здесь в период расцвета «нового ви́дения» (das Neue Sehen), звуча опровержением недвусмысленного посыла нашего коллоквиума. «Встречайте нового фотографа!»[232] – но, что бы о том ни говорили, этот новый фотограф является в обличье писца.
51. Эль Лисицкий. Композиция. 1924. Желатинно-серебряная печать. 14,6 × 20,5 см. Опубликовано в альбоме «foto-auge» под редакцией Франца Роха и Яна Чихольда (1929, табл. 6)
Особое отношение, завязывающееся между фотографией и ручной работой, в частности письмом, заявляет о себе во всех произведениях круга «нового ви́дения». Не очевидное в приводившихся мною формулах о «неграмотности будущего» (Мохой-Надь) или о «забвении чтения» (Мольцан), оно засвидетельствовано во множестве других текстов этого же времени, в том числе в книге «Недовольство культурой», написанной Фрейдом в 1929 году. Мы находим в ней описание средств, используемых цивилизацией для расширения способностей человеческого тела с помощью протезов или искусственных органов:

В книге, посвященной теме взаимоотношений Антона Чехова с евреями, его биография впервые представлена в контексте русско-еврейских культурных связей второй половины XIX — начала ХХ в. Показано, что писатель, как никто другой из классиков русской литературы XIX в., с ранних лет находился в еврейском окружении. При этом его позиция в отношении активного участия евреев в русской культурно-общественной жизни носила сложный, изменчивый характер. Тем не менее, Чехов всегда дистанцировался от любых публичных проявлений ксенофобии, в т. ч.
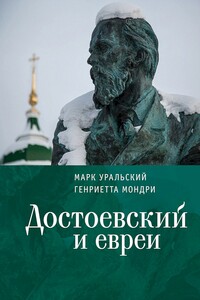
Настоящая книга, написанная писателем-документалистом Марком Уральским (Глава I–VIII) в соавторстве с ученым-филологом, профессором новозеландского университета Кентербери Генриеттой Мондри (Глава IX–XI), посвящена одной из самых сложных в силу своей тенденциозности тем научного достоевсковедения — отношению Федора Достоевского к «еврейскому вопросу» в России и еврейскому народу в целом. В ней на основе большого корпуса документальных материалов исследованы исторические предпосылки возникновения темы «Достоевский и евреи» и дан всесторонний анализ многолетней научно-публицистической дискуссии по этому вопросу. В формате PDF A4 сохранен издательский макет.

Основание и социокультурное развитие Санкт-Петербурга отразило кардинальные черты истории России XVIII века. Петербург рассматривается автором как сознательная попытка создать полигон для социальных и культурных преобразований России. Новая резиденция двора функционировала как сцена, на которой нововведения опробовались на практике и демонстрировались. Книга представляет собой описание разных сторон имперской придворной культуры и ежедневной жизни в городе, который был призван стать не только столицей империи, но и «окном в Европу».

Литературу делят на хорошую и плохую, злободневную и нежизнеспособную. Марина Кудимова зашла с неожиданной, кому-то знакомой лишь по святоотеческим творениям стороны — опьянения и трезвения. Речь, разумеется, идет не об употреблении алкоголя, хотя и об этом тоже. Дионисийское начало как основу творчества с античных времен исследовали философы: Ф. Ницше, Вяч, Иванов, Н. Бердяев, Е. Трубецкой и др. О духовной трезвости написано гораздо меньше. Но, по слову преподобного Исихия Иерусалимского: «Трезвение есть твердое водружение помысла ума и стояние его у двери сердца».

В статье анализируется феномен коллективного сексуального насилия, ярко проявившийся за последние несколько лет в Германии в связи наплывом беженцев и мигрантов. В поисках объяснения этого феномена как экспорта гендеризованных форм насилия автор исследует его истоки в форме вторичного анализа данных мониторинга, отслеживая эскалацию и разрывы в практике применения сексуализированного насилия, сопряженного с политической борьбой во время двух египетских революций. Интерсекциональность гендера, этничности, социальных проблем и кризиса власти, рассмотренные в ряде исследований в режиме мониторинга, свидетельствуют о привнесении политических значений в сексуализированное насилие или об инструментализации сексуального насилия политическими силами в борьбе за власть.

«Лишний человек», «луч света в темном царстве», «среда заела», «декабристы разбудили Герцена»… Унылые литературные штампы. Многие из нас оставили знакомство с русской классикой в школьных годах – натянутое, неприятное и прохладное знакомство. Взрослые возвращаются к произведениям школьной программы лишь через много лет. И удивляются, и радуются, и влюбляются в то, что когда-то казалось невыносимой, неимоверной ерундой.Перед вами – история человека, который намного счастливее нас. Американка Элиф Батуман не ходила в русскую школу – она сама взялась за нашу классику и постепенно поняла, что обрела смысл жизни.