Фотографическое: опыт теории расхождений - [68]
Создать образ того, что пугает, дабы от него защититься, – вот стратегия страха, который заранее предохраняет субъекта от травматической атаки, от этого удара, всегда совершаемого не ожиданно. В работе «По ту сторону принципа удовольствия» Фрейд повторяет выводы «Жуткого» применительно к жизни и смерти организма, описывая травму как удар, который проходит сквозь защитную броню сознания, пронзает его внешний щит и ранит прямо в плоть.
Устанавливаемое Беллмером в серии, каждый элемент которой символически связан с другими, отношение между куклой, раной, двойником и фотографией предвосхищает все основные направления анализа, предпринятого сорок лет спустя Роланом Бартом в «Camera lucida». Эта книга тоже является разработкой понятия жуткого применительно к фотографии, о чем позволяют догадаться уже ее первые строки: «Однажды, довольно давно, мне попала в руки фотография самого младшего брата Наполеона, Жерома, сделанная в 1852 году. Я сказал себе тогда с изумлением, которое с годами отнюдь не стало меньше: “Я смотрю в глаза, которые видели самого Императора”»[219].
История, рассказываемая Бартом в книге, начинается с этого мгновения шока, который, по словам автора, он не мог разделить с другими: те не понимали ни его сути, ни его власти над ним. Оставшись наедине с этим дискомфортным ощущением, Барт его позабыл. И затем, продолжает он, «мой интерес к фотографии принял более культурный оборот».
То есть Барт начал размышлять о фотографии аналитически, продумывать различие между общечеловеческим интересом, которое вызывает снимок, – «студиумом», – и «пунктумом», присутствующей или отсутствующей в нем деталью, которая пронзает это общее место, взламывает, прорывает его и тем самым укалывает, болезненно задевает зрителя. Более половины книги посвящено попыткам Барта установить природу этого «пунктума», этой фотографической детали, что останавливает и «укалывает» внимание. И однажды его теоретическое рассуждение прерывается новым определением, связывающим «пунктум» с фрейдовским «жутким», с внезапными прорывами защитных систем организма и с трепетом от роковых предначертаний. Теперь «пунктум» обозначает явление призрака. Барт рассказывает, как после смерти матери он листал альбом фотографий и вдруг чудесным образом обрел ее «истинный» образ в одном из детских снимков. Вновь случился шок, подобный испытанному им перед портретом Жерома Бонапарта, но на сей раз более глубокий и болезненный, ибо Барт столкнулся с бытием своей матери как бывшим, увековеченным фотографией, которая запечатлела ее как существо-обреченное-умереть. Здесь он понимает, что болезненной делает фотографию присоединяющаяся к ее образам достоверность того, что «это было», того, что «пунктум» («новый пунктум, который относится уже не к форме, а к плотности изображения, – Время») прочитывается как образ самой смертности: «Представляя мне законченное прошлое (аорист) момента снимка, фотография сообщает мне о смерти в будущем. <…> как психотик у Винникотта, я дрожу, ожидая катастрофы, которая уже случилась. Такой катастрофой является любая фотография, умер тот, кто на ней изображен, или нет»[220].
Притягательность фотографии для наших чувств <…> основана во многом на ее подлинности. Зритель подчиняется ее власти и, глядя на нее, с необходимостью верит, что, будь он там, где она была сделана, он увидел бы запечатленные сцену или объект точно такими же[221].
Эдвард Вестон
Открытие, о котором повествует «Camera lucida», связано с одной фотографией, в книге не представленной, так как, по словам Барта, «она существует только для меня. Для вас она была бы лишь заурядным снимком <…>, способным заинтересовать разве что ваш “студиум”: любопытство к эпохе, одежде, фотогеничности модели; но сама по себе она не причинит вам никакой раны»[222]. Намечаемая таким образом наука о фотографии – это «невозможная наука об уникальном бытии», о парадоксальной «истине для меня». Разумеется, это ставит под сомнение столь превозносимую «объективность» фотографии, требует пересмотра представления о ее «подлинности».
Однако для фотографической эстетики ХХ века в целом природа фотоизображения остается таковой, что, как уверяет Эдвард Вестон, «оно не терпит ретуши»: иными словами, признанный авторитет фотографии остается сопряжен с ее истинностью, с объективностью объектива, с непосредственностью и прямотой фотографического ви́дения мира. Кодекс «объективной фотографии» безоговорочно запрещает всякое ручное вмешательство в изображение. Субъективизм Барта, для которого фотография существует как нечто созданное (сделанное «для меня»), звучит оскорблением этой эстетике, так же как и всякая практика, прибегающая к творчеству, будь то манипуляция в процессе печати, манипуляция с отпечатком при помощи ножниц и клея или любой другой способ конструирования «реальности». Ибо какая же это реальность, если она сконструирована?
Аналогичное оскорбление наносит приверженцам «объективной фотографии» – с давних пор и по сей день – фотография сюрреализма. Ведь в самом деле, она в высшей степени искусственна, даже тогда, когда не пользуется ни наложением кадров, ни соляризацией, ни двойной экспозицией, ни чем бы то ни было подобным. Искусственность, можно сказать, и гарантирует отнесение той или иной фотографии к сюрреализму – например, делает сюрреалистической свободную от манипуляций работу Ман Рэя «Анатомии». Дело в том, что сюрреалистская фотография не признает естественного, которое выступает для нее антитезой культурного или сделанного. Все, на что только она обращает свой взор, видится ею как всегда уже сконструированное: объект зрения странным образом переносится в иной регистр, и мы видим его в результате акта сдвига, в основе которого лежит операция замещения. Обработанный или «сырой», объект на самом деле – всегда обработанный, а потому всегда преподносится нам как фетиш: подобная фетишизация реальности как раз и воспринимается в качестве оскорбления со стороны сюрреализма.

В книге, посвященной теме взаимоотношений Антона Чехова с евреями, его биография впервые представлена в контексте русско-еврейских культурных связей второй половины XIX — начала ХХ в. Показано, что писатель, как никто другой из классиков русской литературы XIX в., с ранних лет находился в еврейском окружении. При этом его позиция в отношении активного участия евреев в русской культурно-общественной жизни носила сложный, изменчивый характер. Тем не менее, Чехов всегда дистанцировался от любых публичных проявлений ксенофобии, в т. ч.
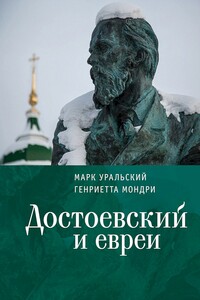
Настоящая книга, написанная писателем-документалистом Марком Уральским (Глава I–VIII) в соавторстве с ученым-филологом, профессором новозеландского университета Кентербери Генриеттой Мондри (Глава IX–XI), посвящена одной из самых сложных в силу своей тенденциозности тем научного достоевсковедения — отношению Федора Достоевского к «еврейскому вопросу» в России и еврейскому народу в целом. В ней на основе большого корпуса документальных материалов исследованы исторические предпосылки возникновения темы «Достоевский и евреи» и дан всесторонний анализ многолетней научно-публицистической дискуссии по этому вопросу. В формате PDF A4 сохранен издательский макет.

Основание и социокультурное развитие Санкт-Петербурга отразило кардинальные черты истории России XVIII века. Петербург рассматривается автором как сознательная попытка создать полигон для социальных и культурных преобразований России. Новая резиденция двора функционировала как сцена, на которой нововведения опробовались на практике и демонстрировались. Книга представляет собой описание разных сторон имперской придворной культуры и ежедневной жизни в городе, который был призван стать не только столицей империи, но и «окном в Европу».

Литературу делят на хорошую и плохую, злободневную и нежизнеспособную. Марина Кудимова зашла с неожиданной, кому-то знакомой лишь по святоотеческим творениям стороны — опьянения и трезвения. Речь, разумеется, идет не об употреблении алкоголя, хотя и об этом тоже. Дионисийское начало как основу творчества с античных времен исследовали философы: Ф. Ницше, Вяч, Иванов, Н. Бердяев, Е. Трубецкой и др. О духовной трезвости написано гораздо меньше. Но, по слову преподобного Исихия Иерусалимского: «Трезвение есть твердое водружение помысла ума и стояние его у двери сердца».

В статье анализируется феномен коллективного сексуального насилия, ярко проявившийся за последние несколько лет в Германии в связи наплывом беженцев и мигрантов. В поисках объяснения этого феномена как экспорта гендеризованных форм насилия автор исследует его истоки в форме вторичного анализа данных мониторинга, отслеживая эскалацию и разрывы в практике применения сексуализированного насилия, сопряженного с политической борьбой во время двух египетских революций. Интерсекциональность гендера, этничности, социальных проблем и кризиса власти, рассмотренные в ряде исследований в режиме мониторинга, свидетельствуют о привнесении политических значений в сексуализированное насилие или об инструментализации сексуального насилия политическими силами в борьбе за власть.

«Лишний человек», «луч света в темном царстве», «среда заела», «декабристы разбудили Герцена»… Унылые литературные штампы. Многие из нас оставили знакомство с русской классикой в школьных годах – натянутое, неприятное и прохладное знакомство. Взрослые возвращаются к произведениям школьной программы лишь через много лет. И удивляются, и радуются, и влюбляются в то, что когда-то казалось невыносимой, неимоверной ерундой.Перед вами – история человека, который намного счастливее нас. Американка Элиф Батуман не ходила в русскую школу – она сама взялась за нашу классику и постепенно поняла, что обрела смысл жизни.