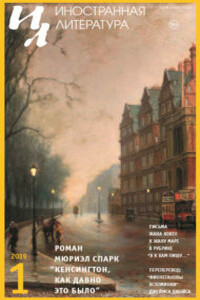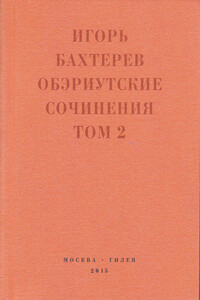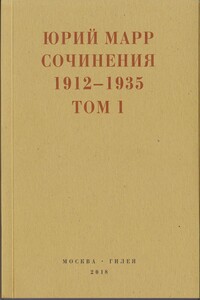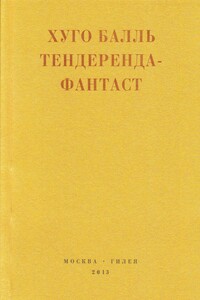7.
Текст воспоминаний о Кульбине не просто помогает определить реальную основу описанных в повести событий, он даёт ключ к разгадке приёма, с помощью которого автор выстраивает образ своего героя. То, что в основе этого приёма лежит принцип коллажа, не окажется для нас неожиданностью. Обычный для творческой практики Бурлюка, он идеально соответствовал жизненной установке художника на «примеривание» чужих биографий. Однако в пространстве литературного текста коллажный принцип становится у Бурлюка инструментом не столько «примеривания», сколько слияния автора с другой личностью. В. Каменский удачно определил этот процесс слияния как «Его-Моя биография», когда герой, сохраняющий при всём том черты своего реального прообраза, шаг за шагом наделяется словами, мыслями и поступками самого автора.
Контаминация разновременных событий и наделение автором своего героя собственными чувствами и мыслями – не редкость в повествовательных жанрах. Однако Бурлюк эти чисто технические приёмы превращает в своего рода универсальный инструмент, посредством которого ему удаётся решать не только творческие, но и мировоззренческие проблемы. Коллажный принцип осознаётся им одновременно и как приём, и как способ познания и освоения («присвоения») действительности. Программно идею подобного ритуального поглощения автором всего, что его окружает, Бурлюк высказал в своём знаменитом opus'e 75 из «Дохлой луны» («Будем лопать пустоту / Глубину и высоту / Птиц, зверей, чудовищ, рыб…»[81]), хотя в своей реальной практике использовал её весьма и весьма избирательно. Как художника его всегда привлекали не одни только творцы новых форм, но и создатели новых, не похожих ни на что бывшее ранее образов: сначала Врубель, потом Денисов и «загадочно-прекрасный» Кнабе, наконец, Филонов и, уже в Америке, – Ван Гог.
Для Бурлюка приход к Филонову стал важным моментом на пути его собственной творческой самореализации. И искусство, и сам облик Филонова, и сопутствовавший ему образ анахорета посреди «полунощного Вавилона» – всё это совпало с глубоко сидевшими в сознании «отца русского футуризма» представлениями об истинном художнике. Что-то из того, что возникло в результате их общения, мысли, наблюдения, взаимные притяжения и отталкивания, конфликтные ситуации, наконец, происшедший разлад в пространстве повести получили возможность выстроиться в некую гармоничную конструкцию, в которой реальность оказалась подвластна автору.
В этой ситуации задача оправдания собственного пути в искусстве авангарда, которая изначально мыслилась Бурлюком главной, постепенно отошла на второй план. Творчески пережив целый кусок собственной жизни, художник окончательно с ним расстался, в его глазах он бесповоротно превратился в прошлое. С тех пор Бур-люк обращался к нему исключительно в мемуарах.
1. Павел Филонов. С.-Петербург. 1908. Фото А.К. Ягельского. РГИА
2. Программка выставки «Венок» («Стефанос»). Москва. Декабрь 1907. НИОР РГБ
3. Всеволод Максимович. Автопортрет. 1913. Киев, Национальный художественный музей Украины
4. На открытии кабаре «Розовый фонарь». Москва. 19 октября 1913. Фото П. Усова. Стоят: Н.В. Николаева, И.М. Зданевич, неизвестная, В.В. Левкиевский, С.М. Романович, неизвестный, И.Ф. Ларионов, А.С. Гончаров, К.А. Большаков. Сидят: неизвестный, М.Ф. Ларионов и Н.С. Гончарова. НИОР РГБ
5. Страница из журнала «Огонёк» (1913. № 48) с рецензией на петербургскую выставку «Союза молодёжи». Внизу воспроизведены картины Д. Бурлюка и П. Филонова
6. Страница из «Синего журнала» (1915. № 7) с фотоколлажем на основе снимка И.А. Оцупа, сделанного в квартире Н. Кульбина на Съезжинской ул. в Петрограде
7. Первая страница журнала “Color and Rhyme” (1954. № 28) с начальными главами повести
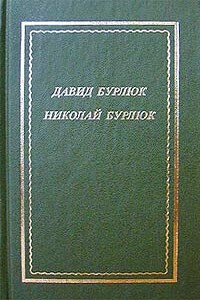

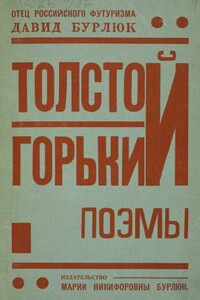
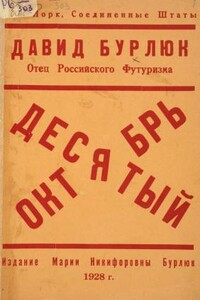

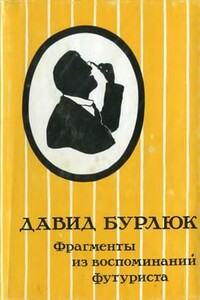
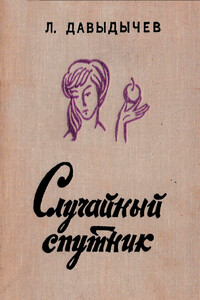
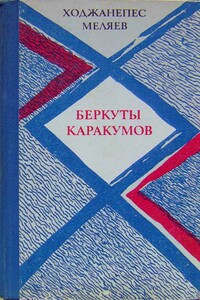
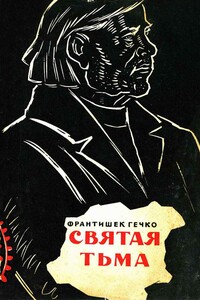

![Песнь в мире тишины [Авторский сборник]](/storage/book-covers/be/be2723eec8d85dc3b97a39d8364c2aa9175ec9cf.jpg)