Двойное проникновение (double penetration). или Записки юного негодяя - [39]
Что же, я Родину любил, но не настолько, чтобы участвовать в подобных спорах. Я благоразумно молчал, испытывая одинаковое отвращение к обеим точкам зрения. Во-первых, после знакомства с Хомяковым я нисколько не удивлялся тому, что, чем ничтожней олицетворение власти, тем громче пропаганда; во-вторых, значение там имела не личная преданность, а укорененность в совместном грехе; а в-третьих, с самого начала невидимую линию фронта, окропленную кровью госпереворота, провели между нынешним режимом – с одной стороны, и, собственно, народом и страной – с другой, и перейти ее нереально. «Власть омерзительна, как руки брадобрея», – однажды сказал поэт, поплатившись за это жизнью. Зачем повторять чужие ошибки? А потом, я единственный из всех точно знал, что уютный мир, в котором мы так беспечно дискутировали, обречен на уничтожение. По всему dark web’у звучала барабанная дробь лозунгов и иерихонских труб проповедников, собирающих обездоленных под зеленые знамена последнего похода на штурм «проклятого Запада», пышущих ненавистью к злополучному золотому миллиарду, – при всей обустроенности еврейской жизни ясно чувствовалось, что находишься на линии фронта постоянной войны с арабами. После неожиданно счастливого завершения моих треволнений в Украине я предпочитал наслаждаться вкусом вина, солнечным теплом и видом вторичных половых признаков женской половины компании, приютившей меня, а также наблюдать, как Иванов напрягает свою сексуальную харизму, стремясь оставаться на высоте. Прямо революция в самоподаче человека. Еще никогда не видел, чтобы кто-либо так себя хвалил. Бесконечные эпитеты «лучший» и «самый» в конечном счете смыли компанию в море, положив конец нелепой дискуссии.
Когда количество выпитых бутылок вина «Баркан» и «Кармель» перешло в качество духовной истерии и началось камлание о роли русских в истории, солирующему Гроссману начал вяло оппонировать Саркисов – кругленький, как розовая попка младенца, с оловянными глазками навыкате, с подобранными губами сжатого в бублик рта, со вздернутыми бровками, – периодически перебивая Гроссмана излишне театральными «Не верю».
Гроссман утверждал, что в стране не люди безнравственны, а общественная дискуссия аморальна; все с этим соглашались – давайте менять страну. Точка зрения Саркисова была такова: люди у нас чудовищные, а страна, наоборот, прекрасная – настолько, насколько это вообще возможно с такими людьми, – давайте менять людей.
Гроссман ему возражал, что если человек негодяй – а сотворен он самолично Богом по своему образу и подобию, – то, значит, и Бог негодяй. Необходимо начинать с Бога. Наша русская религия, видите ли, неправильная, вот у католиков все наоборот, следствие – свобода воли и всеобщее процветание. А у нас, как у евреев, духовные скрепы отчаянно напоминают пояс верности без ключа, который ищут-ищут, да найти не могут.
Тут уж возбудились Гриша и Яков как израильтяне, посчитали, что их оскорбили, сравнив их религию с православием, но им возразил Саркисов, снисходительно объяснив, что это и не религия вовсе, а некое суеверие, которое они исповедуют исключительно как форму лояльности к своему народу, как знак подтверждения еврейства. Что тут началось, до сих пор смешно вспоминать: какие эпитеты, какие метафоры – ни один профессиональный патриот не способен выдавать в адрес врагов отечества такие лингвистические трели, как нравственно оскорбленный русский интеллигент. Торжество сквернословия и пиршество духовного волюнтаризма, блеск и нищета советского образования. И все сразу и вместе.
Но если честно, то это все была скорее игра, чем правда: сложно ждать искренности от наших людей, привыкших с детства предавать и легко менять убеждения за деньги. Во всяком случае, я никому из них не верил, как не верил и самому себе. Хотя дискуссия о Боге мне понравилась: забавный словесный конструктор из гордости и предубеждений; я еще никогда не слышал, чтобы Бога называли негодяем и при этом не боялись за свое будущее. Это меня обнадеживало, укрепляя уверенность в том, что я не одинок на пути обретения всемогущества: весь мир сошел с ума, предпочтя чрезмерность во всем мудрости воздержания, – но это мне было и на руку на моем пути тамплиера.
Сидя на берегу Мертвого моря, по другую сторону которого лежала принципиально другая история и миропонимание, я отчетливо чувствовал всеми своими сверхспособностями, что в цивилизационном выборе я находился на неправильной стороне. Мы все здесь были обречены с нашей неистребимой духовной ленью и почти метафизической жестокостью к врагам на полное поглощение исламским миром. Все время, что мы провели на Мертвом море, над Иорданским берегом клубились грозные облака грядущего Армагеддона, словно там медленно вскипала волна благородной ярости зреющей войны народов за священное право первородства. У нас было стойкое предчувствие, что как только тоненькая пуповина помощи со стороны Америки оборвется, то все здесь будет сметено в небытие, и никакой мировой сионизм живущим на этом берегу не поможет. Мне пришла пора отсюда убираться: меня ждала Прага.

Внежанровая проза, на стыке детектива и мистического триллера. Главный герой – художник, в своей нравственной деградации дошедший до того, что превратил свою патологическую страсть к убийствам в художественный метод организации публичных казней для узкого круга пресыщенных жизнью молодых буржуа. Не рекомендуется для чтения лицам, обремененных духовными скрепами.

История, построенная на сопоставлении противоположных точек зрения четырех участников одних и тех же событий, буквально столкнувших их между собой. И каждый из героев в предложенных обстоятельствах, принимая вызов судьбы, имеет собственную мотивацию поступков и рассказывает свою версию случившегося. Читателю предоставляется право самому разобраться, кому из них можно верить и на чьей стороне правда. Или все врут, включая и автора?

Роман о реально существующей научной теории, о ее носителе и событиях происходящих благодаря неординарному мышлению героев произведения. Многие происшествия взяты из жизни и списаны с существующих людей.
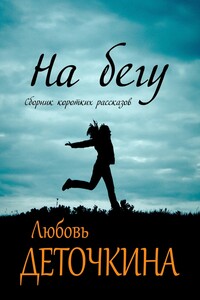
Маленькие, трогательные истории, наполненные светом, теплом и легкой грустью. Они разбудят память о твоем бессмертии, заставят достать крылья из старого сундука, стряхнуть с них пыль и взмыть навстречу свежему ветру, счастью и мечтам.
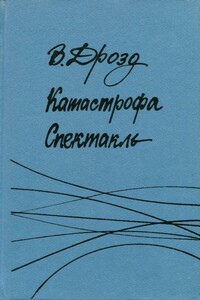
Известный украинский писатель Владимир Дрозд — автор многих прозаических книг на современную тему. В романах «Катастрофа» и «Спектакль» писатель обращается к судьбе творческого человека, предающего себя, пренебрегающего вечными нравственными ценностями ради внешнего успеха. Соединение сатирического и трагического начала, присущее мироощущению писателя, наиболее ярко проявилось в романе «Катастрофа».

Сборник посвящен памяти Александра Павловича Чудакова (1938–2005) – литературоведа, писателя, более всего известного книгами о Чехове и романом «Ложится мгла на старые ступени» (премия «Русский Букер десятилетия», 2011). После внезапной гибели Александра Павловича осталась его мемуарная проза, дневники, записи разговоров с великими филологами, книга стихов, которую он составил для друзей и близких, – они вошли в первую часть настоящей книги вместе с биографией А. П. Чудакова, написанной М. О. Чудаковой и И. Е. Гитович.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
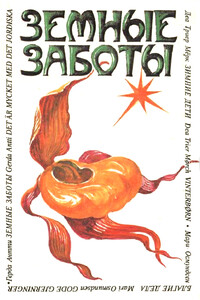
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.