Другая история. «Периферийная» советская наука о древности - [64]
Конечно, апелляция к уже познанной истине – это признак марксистской методологии, и поэтому можно говорить о том, что к началу войны Лурье проходит – почти с десятилетним опозданием по сравнению с теми же Богаевским и Струве – путь постижения советско-маркистской ортодоксии. Наброски его статей показывают, что он знал контекст основных работ всей четверки «классиков» теории, и хотя нередко ссылки и точные формулировки дописывались позднее, сами отсылки к тем или иным теоретическим «установкам» органично входили в текст работы. В советской историографии наступил тот этап, когда даже зрелому ученому нужно было учиться не время от времени вспоминать о своих обязанностях перед господствующей теорией, а чувствовать ее изнутри.
Учесть это историк пробовал в докладе «Предшественники фашизма в античности» – судя по всему, он был сделан в Иркутском университете[513], и в его тексте в качестве теоретической основы использованы признаки фашизма, взятые из речи Сталина от 6 ноября 1942 г.[514] По этим признакам историк и обозначает предтеч фашистских идей в Древней Греции; правда, он дает в конце доклада характерную оговорку: в рабовладельческом обществе теории, обосновывающие право на раба его «варварским» происхождением, были исторически обоснованы, в отличие от фашистской идеологии, которая «имеет пережиточный характер» и потому недолговечна[515]. Симптоматично, что даже такая работа принесла проблемы автору: Иркутский университет поднял вопрос о сочувствии Лурье гитлеровскому фашизму и стремлении его популяризировать – вероятно, из‐за той части доклада, где говорилось о пренебрежении Аристотеля к варварам[516]. Судя по всему, тонкую мысль о разных стадиях развития обществ мало кто услышал, а нахождение параллелей между Феогнидом, Платоном, Аристотелем, с одной стороны, и предтечами фашизма[517], с другой, вызвало подозрение в пропаганде. В годы, когда бдительность считалась залогом безопасности, это был совсем не безобидный поворот событий, и Лурье повезло, что он смог вернуться в Москву до того, как скандал повлек какие-то реальные последствия.
Легко заметить, что вхождение в общее русло давалось историку с трудом – в литературе хорошо исследован тот факт, что выход первой части университетского курса лекций по истории Греции был встречен сугубо отрицательно, и даже спустя почти десять лет, когда уже совершится увольнение историка из ленинградских учреждений, ему будут припоминать эту его работу. Более того, она теперь даже связывалась с его дальнейшими неудачами. В 1949 г. заведующий кафедрой истории древнего мира МГУ Н. А. Машкин говорил на одном из заседаний:
Какая концепция истории Греции у С. Я. Лурье…? Концепция вот какая: никакого патриотизма в Греции не было, аристократия боролась с персами, а демократия сочувствовала персидскому завоеванию. Эта линия С. Я. Лурье проводилась последовательно в течение ряда лет и дело дошло до того, что должны были даже отказаться от статей профессора Лурье в третьем томе «Всемирной истории»[518].
Между тем этот курс может, пожалуй, служить аргументом в пользу того, что перед войной и в годы войны его автор так или иначе стремился оказаться частью «ядра» советской науки о древности. В работе видно стремление задать приемлемую теоретическую рамку, которая будет держать структуру учебника и легитимировать его как пособие для советского студента. Конечно, выделение типов рабства патриархального, древневосточного, греческого и римского, характеризуемых одновременно как стадии[519], нельзя признать совершенно безупречной точкой зрения в контексте складывавшегося мейнстрима конца 1930‐х гг., но можно считать, что она была допустимой и в принципе компромиссной – если говорить о линиях противостояния Никольский–Струве и Тюменев–Струве[520]. Впрочем, когда чуть ниже Лурье попробовал создать компромисс между классической лингвистикой и марризмом, у него получилась уже лишь смягченная полемика с теорией Марра: признав некоторые достижения академика в деле критики предыдущего этапа лингвистики, он счел необходимым говорить (в противоречии с марризмом) о единой прародине индоевропейцев[521].
Увлечение историей науки, как уже было сказано, тоже нетипично для «мейнстримного» советского историка, достаточно еще раз вспомнить другого Лурье – Исидора Михайловича – с его работами по истории техники. Да и тут Соломон Яковлевич тоже проявил свой особый интерес: вряд ли стоит видеть в его живом описании Сиракуз с пересечением представителей разных народов и культурных влияний сколько-нибудь существенную аллюзию на дореволюционный Могилев, но указание на то, что Архимед в детстве занимался не как аристократы – философией, а математикой, ибо был из простой семьи, заставляет понять причины симпатии к нему автора[522]. Пафос книги о Геродоте примерно того же рода: великий историк, которого понимали слишком примитивно; отчасти в этом виновато время, которое все искажает (мифологизацию Геродота Лурье не изучал, но о ее последствиях сказал достаточно), а отчасти – сложность личности первого историка. Ведь Геродот в изображении Лурье «колеблется между старомодным правоверием и ионийским скептицизмом»
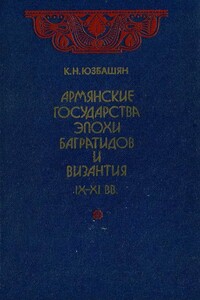
В книге анализируются армяно-византийские политические отношения в IX–XI вв., история византийского завоевания Армении, административная структура армянских фем, истоки армянского самоуправления. Изложена история арабского и сельджукского завоеваний Армении. Подробно исследуется еретическое движение тондракитов.
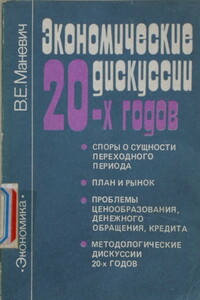
Экономические дискуссии 20-х годов / Отв. ред. Л. И. Абалкин. - М.: Экономика, 1989. - 142 с. — ISBN 5-282—00238-8 В книге анализируется содержание полемики, происходившей в период становления советской экономической науки: споры о сущности переходного периода; о путях развития крестьянского хозяйства; о плане и рынке, методах планирования и регулирования рыночной конъюнктуры; о ценообразовании и кредиту; об источниках и темпах роста экономики. Значительное место отводится дискуссиям по проблемам методологии политической экономии, трактовкам фундаментальных категорий экономической теории. Для широкого круга читателей, интересующихся историей экономической мысли. Ответственный редактор — академик Л.

«История феодальных государств домогольской Индии и, в частности, Делийского султаната не исследовалась специально в советской востоковедной науке. Настоящая работа не претендует на исследование всех аспектов истории Делийского султаната XIII–XIV вв. В ней лишь делается попытка систематизации и анализа данных доступных… источников, проливающих свет на некоторые общие вопросы экономической, социальной и политической истории султаната, в частности на развитие форм собственности, положения крестьянства…» — из предисловия к книге.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

На основе многочисленных первоисточников исследованы общественно-политические, социально-экономические и культурные отношения горного края Армении — Сюника в эпоху развитого феодализма. Показана освободительная борьба закавказских народов в период нашествий турок-сельджуков, монголов и других восточных завоевателей. Введены в научный оборот новые письменные источники, в частности, лапидарные надписи, обнаруженные автором при раскопках усыпальницы сюникских правителей — монастыря Ваанаванк. Предназначена для историков-медиевистов, а также для широкого круга читателей.

Грацианский Николай Павлович. О разделах земель у бургундов и у вестготов // Средние века. Выпуск 1. М.; Л., 1942. стр. 7—19.

Настоящая книга является первой попыткой создания всеобъемлющей истории русской литературной критики и теории начиная с 1917 года вплоть до постсоветского периода. Ее авторы — коллектив ведущих отечественных и зарубежных историков русской литературы. В книге впервые рассматриваются все основные теории и направления в советской, эмигрантской и постсоветской критике в их взаимосвязях. Рассматривая динамику литературной критики и теории в трех основных сферах — политической, интеллектуальной и институциональной — авторы сосредоточивают внимание на развитии и структуре русской литературной критики, ее изменяющихся функциях и дискурсе.

В книге делается попытка подвергнуть существенному переосмыслению растиражированные в литературоведении канонические представления о творчестве видных английских и американских писателей, таких, как О. Уайльд, В. Вулф, Т. С. Элиот, Т. Фишер, Э. Хемингуэй, Г. Миллер, Дж. Д. Сэлинджер, Дж. Чивер, Дж. Апдайк и др. Предложенное прочтение их текстов как уклоняющихся от однозначной интерпретации дает возможность читателю открыть незамеченные прежде исследовательской мыслью новые векторы литературной истории XX века.

Книга известного литературоведа посвящена исследованию самоубийства не только как жизненного и исторического явления, но и как факта культуры. В работе анализируются медицинские и исторические источники, газетные хроники и журнальные дискуссии, предсмертные записки самоубийц и художественная литература (романы Достоевского и его «Дневник писателя»). Хронологические рамки — Россия 19-го и начала 20-го века.

В книге рассматриваются индивидуальные поэтические системы второй половины XX — начала XXI века: анализируются наиболее характерные особенности языка Л. Лосева, Г. Сапгира, В. Сосноры, В. Кривулина, Д. А. Пригова, Т. Кибирова, В. Строчкова, А. Левина, Д. Авалиани. Особое внимание обращено на то, как авторы художественными средствами исследуют свойства и возможности языка в его противоречиях и динамике.Книга адресована лингвистам, литературоведам и всем, кто интересуется современной поэзией.