Другая история. «Периферийная» советская наука о древности - [62]
Биография Лурье содержит уже известные читателю черты: еврей из Могилева из образованной семьи (отец был знаменитым врачом), в гимназии проявлял склонность к математике, но в итоге в 1909 г. поступил на историко-филологический факультет Петербургского университета, стал учеником С. А. Жебелёва. Талантливый студент занимался историей Беотийского союза и уже в конце обучения опубликовал первые статьи в «Журнале Министерства народного просвещения» – примерно в тех же номерах, где выходили ранние работы Кагарова, Струве. Его оставили для подготовки к званию профессора, он перешел в лютеранство – чтобы обойти законодательный запрет иудеям на работу в университете.
Дальнейшая траектория тоже вполне знакома – война, революция, стагнация научных исследований, но и возможность заниматься прежде закрытыми темами. Даже в самые тяжелые годы у Лурье выходили научные или научно-популярные работы. Молодой историк пишет работу об антисемитизме в древности[500]. Причем автор не просто признается, что имеет личный интерес к теме, но немедленно оговаривает и то, что искал ответы на свои вопросы в том числе с помощью «самонаблюдения». Так что уже в начале 1920‐х гг. резко проявляется одна из черт его творчества – отказ от личной отстраненности в научной деятельности. И он не только стилистически подчеркивает это, не смущаясь писать от первого лица, но и в принципе не прячется за научной деятельностью, а, напротив, раскрывает через нее читателям свою личность. Нечто похожее в те же годы встречается обычно у тех историков, которые положительно приняли революцию, а следом и марксизм, ведь для них это было время, когда пали цензурные запреты. В случае с Лурье говорить о восторженном принятии марксизма не приходится, но можно не сомневаться, что в ситуации 1920‐х гг. торжество материалистической философии его вполне устраивало.
Молодой ученый не только публиковал работы, но и преподавал – в основном в Ленинградском университете, работал он также в ИЛЯЗВе[501] и, наконец, в Ленинградском отделении Института истории. Ничего, что можно было бы назвать изоляцией или уходом на вторые роли. Периферийность героя этой главы вызревала не из‐за внешних обстоятельств, а из‐за внутреннего несовпадения с происходящим и поэтому проявила себя наилучшим образом именно в содержательном плане. Он как-то очень последовательно не вписывается в траекторию развития советской науки почти ни на одном из ее поворотов.
Начало собственно советской науки, как уже говорилось ранее, было связано и с завершением «шатания умов», той своеобразной свободы 1920‐х гг., которая была скорее слабым раствором будущего централизма. Но Лурье этого совершенно не чувствовал. В 1929 г. выходит «История античной общественной мысли» – книга, которая была бы нормальной в лучшем случае пятью годами ранее, а к тому времени многие высказывания из нее звучали даже вызывающе. Речь даже не о такой «мелочи», как примечание с цитатой из Троцкого[502], которая, впрочем, указывает на политическую «глухоту» автора: допустим, книгу напечатали до высылки Троцкого из СССР в 1929 г., но ведь тот уже с 1928 г. был в ссылке в Алма-Ате… Теоретическая база книги и способ ее построения делают ее неконвенциональной, даже если бы в ней не было никаких «неправильных» фамилий.
Это расхождение с ведущими тенденциями в советской науке тех лет проявляется в таком обилии, что должно было раздражать практически любого: марксист счел бы эту книгу немарксистской, «буржуазный специалист» – как раз напротив, слишком материалистической… Само название отсылает к работе Г. В. Плеханова «История русской общественной мысли», и марксистские корни работы вполне очевидны, правда, и Плеханов – марксист для советской культуры не вполне канонический, и сама подача исторического материализма со стороны Лурье довольно специфична даже на фоне относительного разнообразия теоретических высказываний 1920‐х гг. Я. С. Лурье говорит о базовом влиянии дарвинизма на взгляды своего отца[503], и теоретическое введение книги, действительно, производит впечатление, будто его автор даже не дарвинистски мыслящий марксист, а поглотивший марксизм дарвинист, – никакое использование формул вроде «сознание определяется бытием»[504] не может этого затушевать. Конечно, в «Материализме и эмпириокритицизме» Ленина тоже есть примеры прямолинейного детерминизма, равно как похожие моменты можно найти и в трудах Плеханова, но даже в них остается некоторая апелляция к диалектике и неоднозначности. Лурье же прямо говорит о незначимости истории личностей, которые сами подчинены причинности исторического процесса и представляют лишь «частный случай для иллюстрации того или иного социального закона»[505], о том, что традиция в социуме равносильна (в буквальном, не переносном смысле) инстинкту у животных, о том, что общество равносильно организму[506]…
Но и это не все. Связь со «старой наукой» оказывается такой же полуиллюзорной. Призыв к проведению аналогий, рассуждения о капитализме и капиталистах в Древней Греции, об «античном социализме» в конце 1920‐х гг. однозначно квалифицировались как признак модернизаторских воззрений, свойственных Э. Мейеру и Ростовцеву, имена и работы которых уже практически превратились в жупел, а через пару лет станут им окончательно; кстати, автор ничуть не стесняется призыва к проведению аналогий с современностью. К этому можно добавить такие непривычные для советского читателя рассуждения (с примерами из источников) о том, почему квалифицированному рабу в Античности жилось лучше, чем свободному бедняку
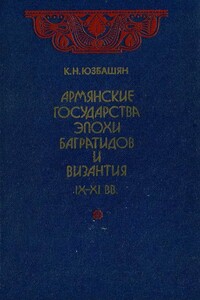
В книге анализируются армяно-византийские политические отношения в IX–XI вв., история византийского завоевания Армении, административная структура армянских фем, истоки армянского самоуправления. Изложена история арабского и сельджукского завоеваний Армении. Подробно исследуется еретическое движение тондракитов.
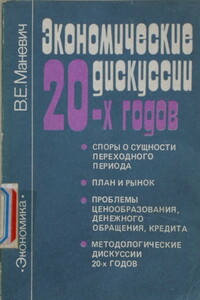
Экономические дискуссии 20-х годов / Отв. ред. Л. И. Абалкин. - М.: Экономика, 1989. - 142 с. — ISBN 5-282—00238-8 В книге анализируется содержание полемики, происходившей в период становления советской экономической науки: споры о сущности переходного периода; о путях развития крестьянского хозяйства; о плане и рынке, методах планирования и регулирования рыночной конъюнктуры; о ценообразовании и кредиту; об источниках и темпах роста экономики. Значительное место отводится дискуссиям по проблемам методологии политической экономии, трактовкам фундаментальных категорий экономической теории. Для широкого круга читателей, интересующихся историей экономической мысли. Ответственный редактор — академик Л.
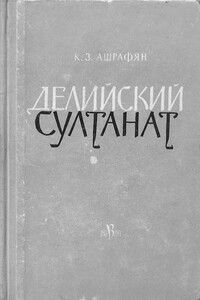
«История феодальных государств домогольской Индии и, в частности, Делийского султаната не исследовалась специально в советской востоковедной науке. Настоящая работа не претендует на исследование всех аспектов истории Делийского султаната XIII–XIV вв. В ней лишь делается попытка систематизации и анализа данных доступных… источников, проливающих свет на некоторые общие вопросы экономической, социальной и политической истории султаната, в частности на развитие форм собственности, положения крестьянства…» — из предисловия к книге.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
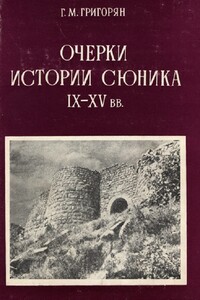
На основе многочисленных первоисточников исследованы общественно-политические, социально-экономические и культурные отношения горного края Армении — Сюника в эпоху развитого феодализма. Показана освободительная борьба закавказских народов в период нашествий турок-сельджуков, монголов и других восточных завоевателей. Введены в научный оборот новые письменные источники, в частности, лапидарные надписи, обнаруженные автором при раскопках усыпальницы сюникских правителей — монастыря Ваанаванк. Предназначена для историков-медиевистов, а также для широкого круга читателей.
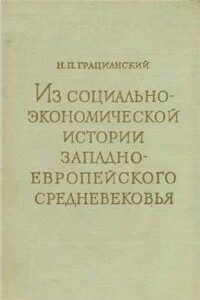
Грацианский Николай Павлович. О разделах земель у бургундов и у вестготов // Средние века. Выпуск 1. М.; Л., 1942. стр. 7—19.

Настоящая книга является первой попыткой создания всеобъемлющей истории русской литературной критики и теории начиная с 1917 года вплоть до постсоветского периода. Ее авторы — коллектив ведущих отечественных и зарубежных историков русской литературы. В книге впервые рассматриваются все основные теории и направления в советской, эмигрантской и постсоветской критике в их взаимосвязях. Рассматривая динамику литературной критики и теории в трех основных сферах — политической, интеллектуальной и институциональной — авторы сосредоточивают внимание на развитии и структуре русской литературной критики, ее изменяющихся функциях и дискурсе.

В книге делается попытка подвергнуть существенному переосмыслению растиражированные в литературоведении канонические представления о творчестве видных английских и американских писателей, таких, как О. Уайльд, В. Вулф, Т. С. Элиот, Т. Фишер, Э. Хемингуэй, Г. Миллер, Дж. Д. Сэлинджер, Дж. Чивер, Дж. Апдайк и др. Предложенное прочтение их текстов как уклоняющихся от однозначной интерпретации дает возможность читателю открыть незамеченные прежде исследовательской мыслью новые векторы литературной истории XX века.

Книга известного литературоведа посвящена исследованию самоубийства не только как жизненного и исторического явления, но и как факта культуры. В работе анализируются медицинские и исторические источники, газетные хроники и журнальные дискуссии, предсмертные записки самоубийц и художественная литература (романы Достоевского и его «Дневник писателя»). Хронологические рамки — Россия 19-го и начала 20-го века.

В книге рассматриваются индивидуальные поэтические системы второй половины XX — начала XXI века: анализируются наиболее характерные особенности языка Л. Лосева, Г. Сапгира, В. Сосноры, В. Кривулина, Д. А. Пригова, Т. Кибирова, В. Строчкова, А. Левина, Д. Авалиани. Особое внимание обращено на то, как авторы художественными средствами исследуют свойства и возможности языка в его противоречиях и динамике.Книга адресована лингвистам, литературоведам и всем, кто интересуется современной поэзией.