Достоевский во Франции. Защита и прославление русского гения, 1942–2021 - [37]
Нельзя, разумеется, свести рассуждения французского ученого о русском авторе к ортодоксальному фрейдизму, образчиком которого явилась ставшая классической статья «Достоевский и отцеубийство»[152]; но именно доминирующая психоаналитическая установка превращает сочинение Кристевой в опыт авторефлексивного психоанализа, в орбиту которого не только втягиваются русский писатель, его персонажи, метод письма, национальная литературная и религиозная традиции, к которым они восходят, но и попадают разнообразные фигуры автора книги «Достоевский», ее сложные отношения с национально-культурными традициями Болгарии, Франции, России. Иными словами, этот опыт литературного психоанализа Достоевского местами оборачивается довольно болезненным опытом самоанализа Кристевой, началом и движущей силой которого является если не комплекс Электры в чистом виде, то определенного рода завороженность фигурой отца как реального, так и интеллектуального, которая местами сливается с фигурой матери и, в соответствии с классическими психоаналитическими установками, конфигурациями отцеубийства и матереубийства.
Именно под знаком неповиновения отцу открывается повествование Кристевой, сознательно включающей элементы автобиографии в наукообразный дискурс. Уже говорилось, что отец, православный христианин, не принявший коммунистической Болгарии, не хотел, чтобы страсти Достоевского, особенно его консерватизм, национализм, почвенничество, бросали мрачную тень на ясную как день французскую будущность, которую он готовил для дочери, открыв для нее двери во французскую культуру, литературу, язык. Преступив отцовские наставления, юная болгарская комсомолка отважно кинулась в мир Достоевского:
Очевидно, как обычно, я не послушалась отцовских наставлений и нырнула в «Досто». И была ослеплена, выбита из колеи, затянута в трясину[153].
Характерная деталь метода рассуждения — усеченная форма имени Достоевского, вполне приемлемая во французских университетских или околоуниверситетских кругах как элемент сленга, за исключением, наверное, славистов, выражает определенного рода запанибратство ученого мирка в отношении автора, который считается едва ли не самым читаемым зарубежным писателем во Франции. Возможно, мы судим чересчур строго, но в подобной фамильярности сказывается не только несколько чрезмерное присутствие русского писателя во французском культурном сознании, но и некая ирония французского университета, как будто пресыщенного штудиями вокруг загадочной «русской души». Наверное, именно на почве такого рода иронии могла появиться на свет такая остроумная литературная мистификация, как «Загадка Толстоевский» П. Байара, известного французского литературоведа, разумеется, не столь именитого, как автор «Достоевского», но тем не менее имеющего и академическое признание, и благотворную читательскую среду[154]. Разумеется, в книге Кристевой нет места «теоретическим фикциям» в чистом виде, как определяет свой метод Байар, однако определенные элементы метода рассуждения, в частности навязчивое присутствие автобиографических моментов, придают работе Кристевой вид автофикции.
Действительно, вслед за фигурой реального отца, против воли которого юная Кристева вступила во врата вселенной Достоевского, в книге возникает тень отца интеллектуального, благодаря которому молодая исследовательница смогла утвердиться в Париже середины 1960‐х годов: речь идет о М. М. Бахтине, чья концепция диалогизма в силу теоретической генерализации, проведенной молодой исследовательницей в ряде работ 1960–1970‐х годов, превратилась в теорию интертекстуальности, в некотором смысле затмившую бахтинское начало. О первых работах Кристевой, посвященных Бахтину, сказано достаточно[155], здесь лишь подчеркнем, что путь к этому интеллектуальному отцу был открыт благодаря еще одному посреднику — легендарному болгарскому философу-литературоведу Цветану Стоянову, умевшему найти далеко не шаблонные ключи к загадкам творчества Достоевского:
Своим щедрым, смущающим смехом Цветан Стоянов, изгнав смутную меланхолию моих первых чтений, научил меня различать в бытии фарс и ничто. Бахтин нас убедил, что Достоевский проложил нехоженые пути: не трагедия, не комедия, но нечто такое, что, восходя к латинской, средневековой и ренессансной сатире, было более разрушительным, чем сократический диалог, не будучи, однако, циничным. […] Говоря более серьезно и даже вне политического контекста, смех Цветана помог мне принимать карнавальное измерение самого внутреннего опыта, который Достоевский выставляет противовесом верованиям и идеологиям[156].
Итак, как можно еще раз убедиться, сердцевина прочтения Кристевой творчества Достоевского образована понятием «внутренний опыт», восходящим к сочинениям Батая. В этом отношении важно напомнить, что формула «утверждения жизни даже в смерти» непосредственно соотносится с понятием «эротизм», которое, таким образом, оказывается путеводной нитью в лабиринте автофикциональных гипотез, через которые французская исследовательница пытается представить в своей работе значения и смыслы романов русского писателя. Таким образом, если в начале своих размышлений (разделы «Можно ли любить Достоевского?», «Преступления и дар прощения», «Богочеловек и человекобог») Кристева просто облекает эротическим флером воспоминания об отеческих фигурах, преодоление авторитета которых становится важнейшей движущей силой ее интеллектуального становления, то с четвертого раздела — «Второй пол вне-пола» — эротизм действительно оказывается главным ключом к духовным тайнам Достоевского.

Иван Александрович Ильин вошел в историю отечественной культуры как выдающийся русский философ, правовед, религиозный мыслитель.Труды Ильина могли стать актуальными для России уже после ликвидации советской власти и СССР, но они не востребованы властью и поныне. Как гениальный художник мысли, он умел заглянуть вперед и уже только от нас самих сегодня зависит, когда мы, наконец, начнем претворять наследие Ильина в жизнь.
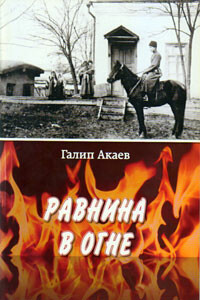
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Граф Савва Лукич Рагузинский незаслуженно забыт нашими современниками. А между тем он был одним из ближайших сподвижников Петра Великого: дипломат, разведчик, экономист, талантливый предприниматель очень много сделал для России и для Санкт-Петербурга в частности.Его настоящее имя – Сава Владиславич. Православный серб, родившийся в 1660 (или 1668) году, он в конце XVII века был вынужден вместе с семьей бежать от турецких янычар в Дубровник (отсюда и его псевдоним – Рагузинский, ибо Дубровник в то время звался Рагузой)

Лев Львович Регельсон – фигура в некотором смысле легендарная вот в каком отношении. Его книга «Трагедия Русской церкви», впервые вышедшая в середине 70-х годов XX века, долго оставалась главным источником знаний всех православных в России об их собственной истории в 20–30-е годы. Книга «Трагедия Русской церкви» охватывает период как раз с революции и до конца Второй мировой войны, когда Русская православная церковь была приближена к сталинскому престолу.

Написанная на основе ранее неизвестных и непубликовавшихся материалов, эта книга — первая научная биография Н. А. Васильева (1880—1940), профессора Казанского университета, ученого-мыслителя, интересы которого простирались от поэзии до логики и математики. Рассматривается путь ученого к «воображаемой логике» и органическая связь его логических изысканий с исследованиями по психологии, философии, этике.Книга рассчитана на читателей, интересующихся развитием науки.

В основе автобиографической повести «Я твой бессменный арестант» — воспоминания Ильи Полякова о пребывании вместе с братом (1940 года рождения) и сестрой (1939 года рождения) в 1946–1948 годах в Детском приемнике-распределителе (ДПР) города Луги Ленинградской области после того, как их родители были посажены в тюрьму.Как очевидец и участник автор воссоздал тот мир с его идеологией, криминальной структурой, подлинной языковой культурой, мелодиями и песнями, сделав все возможное, чтобы повествование представляло правдивое и бескомпромиссное художественное изображение жизни ДПР.

В книге рассматриваются индивидуальные поэтические системы второй половины XX — начала XXI века: анализируются наиболее характерные особенности языка Л. Лосева, Г. Сапгира, В. Сосноры, В. Кривулина, Д. А. Пригова, Т. Кибирова, В. Строчкова, А. Левина, Д. Авалиани. Особое внимание обращено на то, как авторы художественными средствами исследуют свойства и возможности языка в его противоречиях и динамике.Книга адресована лингвистам, литературоведам и всем, кто интересуется современной поэзией.

В книге делается попытка подвергнуть существенному переосмыслению растиражированные в литературоведении канонические представления о творчестве видных английских и американских писателей, таких, как О. Уайльд, В. Вулф, Т. С. Элиот, Т. Фишер, Э. Хемингуэй, Г. Миллер, Дж. Д. Сэлинджер, Дж. Чивер, Дж. Апдайк и др. Предложенное прочтение их текстов как уклоняющихся от однозначной интерпретации дает возможность читателю открыть незамеченные прежде исследовательской мыслью новые векторы литературной истории XX века.

Книга известного литературоведа посвящена исследованию самоубийства не только как жизненного и исторического явления, но и как факта культуры. В работе анализируются медицинские и исторические источники, газетные хроники и журнальные дискуссии, предсмертные записки самоубийц и художественная литература (романы Достоевского и его «Дневник писателя»). Хронологические рамки — Россия 19-го и начала 20-го века.

Если рассматривать науку как поле свободной конкуренции идей, то закономерно писать ее историю как историю «победителей» – ученых, совершивших большие открытия и добившихся всеобщего признания. Однако в реальности работа ученого зависит не только от таланта и трудолюбия, но и от места в научной иерархии, а также от внешних обстоятельств, в частности от политики государства. Особенно важно учитывать это при исследовании гуманитарной науки в СССР, благосклонной лишь к тем, кто безоговорочно разделял догмы марксистско-ленинской идеологии и не отклонялся от линии партии.