Достоевский во Франции. Защита и прославление русского гения, 1942–2021 - [35]
Для начала заметим, что сама издательская формула книги — развернутый авторский текст, представляющий определенную концепцию творчества русского писателя и предваряющей тематическую антологию избранных фрагментов из его сочинений и писем — как нельзя лучше соответствует имплицитной задаче Кристевой: представить вольное видение творчества Достоевского в свете собственного литературного опыта. Задача в общем самоочевидная и разрешимая, однако в случае с рассматриваемой работой отягченная определенными привходящими обстоятельствами, которые превращают работу исследовательницы не столько в плодотворное соразмышление с избранным автором, сколько в ресентиментный оговор русского писателя, основанный к тому же на довольно поверхностном знании классических текстов и предвзятом понимании отдельных мотивов и тем его творчества.
Действительно, современному русскому читателю трудно понять такой поворот культурного трансфера, но и в самой книге, и особенно в радиоинтервью, сопровождавших трудное продвижение книги в условиях санитарного карантина[138], автор предпринимает рискованную и раскованную попытку предельно приблизить русского романиста к актуальной интеллектуально-политической ситуации современной Франции, находя в классических русских романах XIX века разумные основания для верного выбора перед лицом тех дилемм, которыми терзается сегодня просвещенное европейское сознание.
Как это ни парадоксально, но сегодня одна из самых ярких интеллектуалок Франции склоняется к тому, чтобы видеть в романах Достоевского панацею от современной пандемии, как реальной, так и воображаемой: последняя сводится к готовности человека индифферентно принимать жизнь как в образе Мадонны, бесконтрольно тиражируемом в иммерсивных перформансах, так и в образе Содома, одержавшем верх в диктатуре порнографии. Достоевский, в прочтении Кристевой, не только предвестник современного царства повального нигилизма, которое сплошь от мира сего, но и создатель нового евангелия для мира и человека, обреченных отныне существовать в виде своего рода пережитков прошлого. В этой семантической перспективе русский писатель, всякий раз чудом выживавший после казни, каторги, солдатчины, приступов болезни или страсти, предоставляет современному человеку руководство по жизни-после-смерти или по жизни-вместе-со-смертью, передает ему такой «внутренний опыт», который, как замечает Кристева в одном из уже упоминавшихся радиоинтервью, представляет собой «утверждение жизни даже в смерти»[139].
Формула «утверждения жизни даже в смерти», через которую исследовательница характеризует свою книгу, восходит к идее «внутреннего опыта», которая была представлена Ж. Батаем в неровных пассажах одноименной книги, вышедшей в свет в глухую полночь Черного лихолетья Франции (1940–1944)[140]. Собственно говоря, сама идея «утверждения жизни даже в смерти» является своего рода паралогическим следствием идеи «внутреннего опыта»: она соответствует стремлению преодолеть «внутреннего человека», выйти к пределам и за пределы человеческого, целенаправленно вознестись или опуститься в стихии безумия, жертвы, оргазма, оргии, поэзии, праздника, прожигания жизни, растраты и утраты собственно человеческого, которое оказывается подвешенным на волоске в угаре этого «пира во время чумы», которому готовы предаваться иные сограждане в пароксизмах болезни, войны, кризиса или иной формы «великого заточения».
Это «внутреннее», что идет прахом вовне, явственно перекликается с тем испытанием границ человечности, что было запечатлено в романе-притче А. Камю «Чума» (1947), единодушно воспринимавшемся современниками как одно из самых впечатляющих представлений царства нацистской пандемии[141], а в наши дни — как пророчество нового образа жизни, в котором индивидуальное ставится под вопрос в силу чрезвычайного положения.
Уточняя формулу «утверждения жизни даже в смерти», заметим, что почти никто из современников, не заметил внутренних схождений между книгой Батая и романом Камю, если не считать, правда, самого Батая, который в потрясающем отклике на пьесу «Осадное положение» (1949), явившуюся сценической версией «Чумы», оставил несколько замечательных откровений, которые отбрасывают причудливый свет и на мысль самого Батая, и на роман Камю, и, как это ни парадоксально, на актуальную ситуацию всеобщего существования, в которой мораль счастья, утвердившаяся благодаря непреодолимому горизонту капитализма как единственно возможной формы жизнеустройства, вдруг была поставлена под вопрос моралью несчастья или, иначе говоря, чрезвычайного положения.
Действительно, в статье «Счастье, несчастье и мораль Альбера Камю» Батай проницательно связал угрозу болезни или несчастья с тенденцией к утверждению авторитарного режима, который не только распространяет свое господство над социальными формами человеческого существования, но и проникает внутрь человека, убивая его свободу «моралью несчастья»:
Угроза несчастья, которая глядит изо всех углов […] укрепляет авторитет правительства. Трудно усомниться, что во время войны народом легко управлять — полицейские режимы жить не могут, если нет напряженной международной обстановки, угрозы войны. […] Но несчастье не есть только орудие власти в руках палачей: оно просачивается внутрь каждого человека в виде морали. […] Если мы ищем счастья, то нам должно отвечать капризу страсти […] Или точнее: мир каприза — это мир без морального закона и без виноватых. Основная трудность такого настроя мысли заключается в абсолютной необходимости государства и морали

Иван Александрович Ильин вошел в историю отечественной культуры как выдающийся русский философ, правовед, религиозный мыслитель.Труды Ильина могли стать актуальными для России уже после ликвидации советской власти и СССР, но они не востребованы властью и поныне. Как гениальный художник мысли, он умел заглянуть вперед и уже только от нас самих сегодня зависит, когда мы, наконец, начнем претворять наследие Ильина в жизнь.
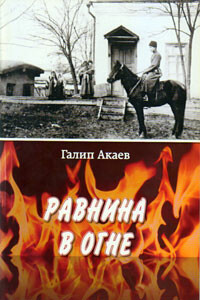
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Граф Савва Лукич Рагузинский незаслуженно забыт нашими современниками. А между тем он был одним из ближайших сподвижников Петра Великого: дипломат, разведчик, экономист, талантливый предприниматель очень много сделал для России и для Санкт-Петербурга в частности.Его настоящее имя – Сава Владиславич. Православный серб, родившийся в 1660 (или 1668) году, он в конце XVII века был вынужден вместе с семьей бежать от турецких янычар в Дубровник (отсюда и его псевдоним – Рагузинский, ибо Дубровник в то время звался Рагузой)

Лев Львович Регельсон – фигура в некотором смысле легендарная вот в каком отношении. Его книга «Трагедия Русской церкви», впервые вышедшая в середине 70-х годов XX века, долго оставалась главным источником знаний всех православных в России об их собственной истории в 20–30-е годы. Книга «Трагедия Русской церкви» охватывает период как раз с революции и до конца Второй мировой войны, когда Русская православная церковь была приближена к сталинскому престолу.

Написанная на основе ранее неизвестных и непубликовавшихся материалов, эта книга — первая научная биография Н. А. Васильева (1880—1940), профессора Казанского университета, ученого-мыслителя, интересы которого простирались от поэзии до логики и математики. Рассматривается путь ученого к «воображаемой логике» и органическая связь его логических изысканий с исследованиями по психологии, философии, этике.Книга рассчитана на читателей, интересующихся развитием науки.

В основе автобиографической повести «Я твой бессменный арестант» — воспоминания Ильи Полякова о пребывании вместе с братом (1940 года рождения) и сестрой (1939 года рождения) в 1946–1948 годах в Детском приемнике-распределителе (ДПР) города Луги Ленинградской области после того, как их родители были посажены в тюрьму.Как очевидец и участник автор воссоздал тот мир с его идеологией, криминальной структурой, подлинной языковой культурой, мелодиями и песнями, сделав все возможное, чтобы повествование представляло правдивое и бескомпромиссное художественное изображение жизни ДПР.

В книге рассматриваются индивидуальные поэтические системы второй половины XX — начала XXI века: анализируются наиболее характерные особенности языка Л. Лосева, Г. Сапгира, В. Сосноры, В. Кривулина, Д. А. Пригова, Т. Кибирова, В. Строчкова, А. Левина, Д. Авалиани. Особое внимание обращено на то, как авторы художественными средствами исследуют свойства и возможности языка в его противоречиях и динамике.Книга адресована лингвистам, литературоведам и всем, кто интересуется современной поэзией.

В книге делается попытка подвергнуть существенному переосмыслению растиражированные в литературоведении канонические представления о творчестве видных английских и американских писателей, таких, как О. Уайльд, В. Вулф, Т. С. Элиот, Т. Фишер, Э. Хемингуэй, Г. Миллер, Дж. Д. Сэлинджер, Дж. Чивер, Дж. Апдайк и др. Предложенное прочтение их текстов как уклоняющихся от однозначной интерпретации дает возможность читателю открыть незамеченные прежде исследовательской мыслью новые векторы литературной истории XX века.

Книга известного литературоведа посвящена исследованию самоубийства не только как жизненного и исторического явления, но и как факта культуры. В работе анализируются медицинские и исторические источники, газетные хроники и журнальные дискуссии, предсмертные записки самоубийц и художественная литература (романы Достоевского и его «Дневник писателя»). Хронологические рамки — Россия 19-го и начала 20-го века.

Если рассматривать науку как поле свободной конкуренции идей, то закономерно писать ее историю как историю «победителей» – ученых, совершивших большие открытия и добившихся всеобщего признания. Однако в реальности работа ученого зависит не только от таланта и трудолюбия, но и от места в научной иерархии, а также от внешних обстоятельств, в частности от политики государства. Особенно важно учитывать это при исследовании гуманитарной науки в СССР, благосклонной лишь к тем, кто безоговорочно разделял догмы марксистско-ленинской идеологии и не отклонялся от линии партии.