Достоевский во Франции. Защита и прославление русского гения, 1942–2021 - [34]
Вторым камнем на этом пути — правда, не камнем преткновения, а камнем краеугольным, — стала книга М. М. Бахтина «Проблемы поэтики Достоевского». Много позже в беседе с канадским славистом К. Томпсоном, посвященной рецепции Бахтина во Франции, Кристева выразительно обрисовала интеллектуальный контекст рецепции книг русского мыслителя в кругах молодых софийских интеллектуалов в середине 60-годов:
…Я принадлежала к интеллектуальным кругам, которые считались «диссидентскими», они делились на две сферы: с одной стороны, были славянофилы, или националисты, они пытались разжечь пламя культурной жизни, свободомыслия, исходя из реставрации культурной памяти; с другой стороны, были западники, которые полагали, что нужно повернуться к Западу, если мы хотим обрести свободу. В это время я была студенткой, почти завершала учебу, меня привлекали западники. Оба клана были заняты тогда одним событием: публикацией в Москве «Проблем поэтики Достоевского» (1963), а затем книги о Рабле (1965). Те из моих друзей, что были постарше, либо преподавали в Университете, либо были исследователями в Академии наук, специализируясь по истории литературы, сравнительному литературоведению или теории литературы, они видели в работах Бахтина не только ответ формалистам, но и шедевр синтетической мысли, способной постичь Достоевского в свете русского характера — чрезмерного, полифонического, карнавального[132].
Именно Достоевский косвенно подыграл дебюту молодой исследовательницы на французской интеллектуальной сцене в разгар событий 1968 года, который был увенчан как публикацией книги «Проблемы поэтики Достоевского» (1970) во Франции, так и взрывными комментариями к ней, которыми Кристева внесла свою лепту в сотворение легенды Бахтина во французской культуре. В радикальном предисловии к французскому переводу книги русского мыслителя, озаглавленном «Разрушенная поэтика»[133], а также в более ранней статье, опубликованной в едва ли не самом авторитетном интеллектуальном журнале Франции того времени, молодая исследовательница представила последовательный опыт семиологического анализа работ Бахтина, которые были показаны, с одной стороны, как опыт преодоления русского формализма, тогда как с другой — как динамичная модель порождения смысла, ставящая под вопрос известную статичность новейшего структурализма[134]. Толкования Кристевой к работам Бахтина, касавшиеся, разумеется, и идеологии самого Достоевского, не отличались исторической, филологической и фактологической точностью, но они ознаменовали триумфальное вступление опального российского мыслителя в пространство западной интеллектуальной культуры; вместе с тем они оказались вызовом французской славистической традиции, ревнители которой не преминули отметить «чужеродность» трактовок, предложенных новоиспеченной французской исследовательницей. Так или иначе, но именно Кристева первой ввела Бахтина во французскую научную культуру, уверенно продемонстрировав его интеллектуальную актуальность на фоне перехода от структурализма к постструктурализму, от истории литературы к поэтологическому анализу текста, от позитивистской текстологии к интертекстуальным штудиям[135].
После статей о Бахтине фигура Достоевского нечасто возникала в исследованиях Кристевой, работавшей, следуя перекрестным методам лингвистики, психоанализа и философской антропологии, в области истории культуры, исследуя то, как те или иные аффекты, то есть довербальные психические движения или состояния, переносятся посредством литературы в знаки, ритмы, формы. Можно вспомнить в этой связи известную книгу «Силы ужаса: эссе об отвращении» (1982), где в одной из начальных глав есть небольшой раздел «Достоевский», в котором, рассмотрев проблематику «Бесов» в свете безотчетного стремления персонажей существовать на пределе душевных сил и искать беспредельного, исследовательница лаконично сформулировала один главных конфликтов творчества русского писателя: «Достоевский радиографировал сексуальное, моральное, религиозное отвращение как крах закона отцов»[136]. Более глубокое и более развернутое прочтение текстов русского писателя в свете перекрестной проблематики депрессии и меланхолии представлено в книге «Черное солнце» (1997), где в главе «Достоевский: письмо страдания и прощения» предпринимается довольно амбициозная попытка постичь «русскую православную логику», которая диктует, наряду с другими, более литературными источниками, и полифонию, и диалогизм автора «Братьев Карамазовых», равно как всепроникающую «апологию страдания вместе с прощением»[137].
Таким образом, книга «Достоевский» — далеко не случайная работа среди исследовательских начинаний Кристевой. В некотором смысле русский писатель действительно является «автором всей жизни» исследовательницы, наряду с такими писателями, как Пруст, Селин или Батай. Так что была определенная закономерность, что она получила предложение представить своего Достоевского в довольно престижной серии «Авторы моей жизни» издательства «Buchet/Chastel», в которой ранее были опубликованы такие своеобразные сочинения, как «Гюго» М. Бютора, «Декарт» П. Валери, «Маркс» Л. Троцкого, «Шопенгауэр» Т. Манна и т. п. Можно сказать, что речь идет о французском аналоге некогда известной в России книжной серии «Писатели о писателях», правда, свободном от какого бы то ни было притязания на академизм или эдиционный сциентизм. Это не литературоведение в строгом смысле слова, как бы ни понимать данную дисциплину; скорее, своего рода свидетельство литературного признания, когда маститый литератор делится своими размышлениями об авторе, оказавшемся в известном смысле пожизненным спутником его творческого становления. В какой мере это признание составляет истинное содержание работы Кристевой, нам предстоит понять во второй части этой главы.

Иван Александрович Ильин вошел в историю отечественной культуры как выдающийся русский философ, правовед, религиозный мыслитель.Труды Ильина могли стать актуальными для России уже после ликвидации советской власти и СССР, но они не востребованы властью и поныне. Как гениальный художник мысли, он умел заглянуть вперед и уже только от нас самих сегодня зависит, когда мы, наконец, начнем претворять наследие Ильина в жизнь.
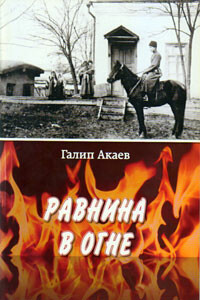
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Граф Савва Лукич Рагузинский незаслуженно забыт нашими современниками. А между тем он был одним из ближайших сподвижников Петра Великого: дипломат, разведчик, экономист, талантливый предприниматель очень много сделал для России и для Санкт-Петербурга в частности.Его настоящее имя – Сава Владиславич. Православный серб, родившийся в 1660 (или 1668) году, он в конце XVII века был вынужден вместе с семьей бежать от турецких янычар в Дубровник (отсюда и его псевдоним – Рагузинский, ибо Дубровник в то время звался Рагузой)

Лев Львович Регельсон – фигура в некотором смысле легендарная вот в каком отношении. Его книга «Трагедия Русской церкви», впервые вышедшая в середине 70-х годов XX века, долго оставалась главным источником знаний всех православных в России об их собственной истории в 20–30-е годы. Книга «Трагедия Русской церкви» охватывает период как раз с революции и до конца Второй мировой войны, когда Русская православная церковь была приближена к сталинскому престолу.

Написанная на основе ранее неизвестных и непубликовавшихся материалов, эта книга — первая научная биография Н. А. Васильева (1880—1940), профессора Казанского университета, ученого-мыслителя, интересы которого простирались от поэзии до логики и математики. Рассматривается путь ученого к «воображаемой логике» и органическая связь его логических изысканий с исследованиями по психологии, философии, этике.Книга рассчитана на читателей, интересующихся развитием науки.

В основе автобиографической повести «Я твой бессменный арестант» — воспоминания Ильи Полякова о пребывании вместе с братом (1940 года рождения) и сестрой (1939 года рождения) в 1946–1948 годах в Детском приемнике-распределителе (ДПР) города Луги Ленинградской области после того, как их родители были посажены в тюрьму.Как очевидец и участник автор воссоздал тот мир с его идеологией, криминальной структурой, подлинной языковой культурой, мелодиями и песнями, сделав все возможное, чтобы повествование представляло правдивое и бескомпромиссное художественное изображение жизни ДПР.

В книге рассматриваются индивидуальные поэтические системы второй половины XX — начала XXI века: анализируются наиболее характерные особенности языка Л. Лосева, Г. Сапгира, В. Сосноры, В. Кривулина, Д. А. Пригова, Т. Кибирова, В. Строчкова, А. Левина, Д. Авалиани. Особое внимание обращено на то, как авторы художественными средствами исследуют свойства и возможности языка в его противоречиях и динамике.Книга адресована лингвистам, литературоведам и всем, кто интересуется современной поэзией.

В книге делается попытка подвергнуть существенному переосмыслению растиражированные в литературоведении канонические представления о творчестве видных английских и американских писателей, таких, как О. Уайльд, В. Вулф, Т. С. Элиот, Т. Фишер, Э. Хемингуэй, Г. Миллер, Дж. Д. Сэлинджер, Дж. Чивер, Дж. Апдайк и др. Предложенное прочтение их текстов как уклоняющихся от однозначной интерпретации дает возможность читателю открыть незамеченные прежде исследовательской мыслью новые векторы литературной истории XX века.

Книга известного литературоведа посвящена исследованию самоубийства не только как жизненного и исторического явления, но и как факта культуры. В работе анализируются медицинские и исторические источники, газетные хроники и журнальные дискуссии, предсмертные записки самоубийц и художественная литература (романы Достоевского и его «Дневник писателя»). Хронологические рамки — Россия 19-го и начала 20-го века.

Если рассматривать науку как поле свободной конкуренции идей, то закономерно писать ее историю как историю «победителей» – ученых, совершивших большие открытия и добившихся всеобщего признания. Однако в реальности работа ученого зависит не только от таланта и трудолюбия, но и от места в научной иерархии, а также от внешних обстоятельств, в частности от политики государства. Особенно важно учитывать это при исследовании гуманитарной науки в СССР, благосклонной лишь к тем, кто безоговорочно разделял догмы марксистско-ленинской идеологии и не отклонялся от линии партии.