Дочь - [64]
Лиза Зайденвебер. Я видел ее фотографии. Маленькая круглолицая девочка со светлыми кудрями. Крепкий подросток — светлые волосы, мантия с квадратной шапочкой, которые в Америке надевают по случаю окончания колледжа. Ее имя навевало грусть — я подумал: а знала ли Анна, когда родилась Лиза, откуда взялось имя, выбранное для дочери, скорее всего, Сэмом.
Никто не может быть тебе более чужим, чем ребенок человека, которого хорошо знаешь. Ты постоянно выслушиваешь замечания о чужих детях, изливающиеся на тебя. («Лиз была просто чертенком в свои пятнадцать! Кололась, курила, пила… Трудный ребенок. Потом начался вселенский трах…».)
Знакомство с объектом рассказов почти наверняка разочарует любого.
На миг мне захотелось, чтобы все это не имело ко мне отношения. Но я знал, что должен лететь на похороны. Более того, обязан ради Сэма.
— О’кей, Макс, Сэму это будет очень приятно.
— До встречи, Лиза, звони, если понадобится помощь.
Пока я искал такси в аэропорту Лос-Анджелеса, запах города кружил мне голову. Конечно, здесь я не был дома, но в этом городе у меня возникало подозрительно сильное ощущение убежища, места, где меня никто не знает и где я чудесным образом могу на время исчезнуть. Жара и свет: никогда не гаснущий, абсолютно не изменившийся за время моего отсутствия. Это не ранило, скорее утешало, и я не мог не отдаться этому чувству.
Двери были распахнуты настежь. Невозможно было смириться с тем, что самоуверенный, насмешливый Сэм, в смокинге (элегантный cummerbund[51] затягивала на нем Анна), не встречает гостей в дверях. Я остро почувствовал безвозвратность ушедшего времени.
Внутри толпились незнакомцы, по большей части пожилые, которых испугало мое появление. Я торопливо прошел по всему дому, прочесал его весь, чтобы убедиться, чтобы знать наверняка. Каждого из четырех сотен приглашенных я осматривал так внимательно, что меня, вероятно, приняли за человека, собравшегося уезжать.
Сэм превратился за прошедшие полгода в настоящего старика. Что-то случилось с его осанкой. И одежда не выглядела такой аккуратной, как прежде, хотя пятен я не заметил. В глаза бросились застиранный воротничок и обтрепанные манжеты, нечищеные ботинки, волосы, неряшливо торчавшие из ушей и из носа. Щеки его ввалились, на коже появились старческие пятна, шея, казалось, с трудом поддерживала голову
Но главное — глаза, их невидящий взгляд, который давал понять, как он чувствует себя на самом деле. Ему не на что больше было смотреть во внешнем мире, он погрузился во вселенную мира внутреннего и заперся там на замок от настоящего и будущего.
Перед началом церемонии — в доме, где семья и друзья собрались вместе, чтобы проститься с покойной, — он отнюдь не выглядел довольным от того, что увидел меня. Было что-то безразличное в его поведении. Раза два он спутал меня со своим сыном Беном, с которым я едва успел познакомиться.
Бен был худ и нервен, внешне — портрет отца, но совершенно другой характер. Это становилось ясно сразу, стоило ему открыть рот: говорил он только о ценах. Сколько придется заплатить за компьютеры и другую аппаратуру, которую он собирается приобрести для своего бизнеса.
Чувствовалось, что жалуется Бен специально, я сразу заподозрил случай избалованного ребенка, считающего, что он имеет право на поддержку папы, который всегда слишком занят своим домом и, кроме того, достаточно богат.
Бен часто и громко смеялся, даже в этот печальный день, но его худое лицо выглядело таким напряженным, что казалось, будто он готов расплакаться, чтобы хоть немного смягчить свою боль.
Дочь Сэма, Лиза, оказалась полной блондинкой, одетой аккуратно, в подобающий случаю темно-синий костюм с белой блузкой. Вылитая мать, только моложе и еще ни разу не обращавшаяся к хирургу.
Она обняла меня так сердечно, что я испугался: в ее объятиях было что-то театральное и льстивое. Муж ее, Хенк, носил усы и походил на прямолинейного служаку-военного. Он подал мне руку — вежливо, но без эмоций.
О самой Анне говорили мало, словно стыдились обсуждать, как сильно, почти пугающе изменилась она за последние полгода, а теперь и эта, непохожая на нее тень бесшумно исчезает навсегда. Я полагал также, что дети сидели у ее постели только в последние недели, во всяком случае, слишком мало, чтобы легко справиться с чувством вины. Я не испытывал ни к кому из них симпатии, хотя Лиза старалась изо всех сил показать мне свою приязнь.
Я заметил, что Сэм обращал на своих детей едва ли не меньше внимания, чем на остальных гостей, но покорно позволил им проводить себя из комнаты, где стоял гроб, к машине. В крематории он тоже двигался, как слепой, едва переставляя ноги, опираясь на руку дочери. И почти не разговаривал. Старый человек из другого мира.
Пока шла служба, я стоял позади, а когда все кончилось, подошел к нему и был тронут неожиданно появившимся на его лице радостным выражением — как будто он только сейчас наконец увидел меня.
Он обнял меня и похлопал по спине, словно утешать надо было меня, а не его. Он всегда так делал.
Я почувствовал признательность за это. Его скорбь была чистосердечной. Анна не стала подарком для его старого влюбленного сердца, в отличие от Сабины, но она была ему женой: той, что сопутствовала ему в жизни, помогала управлять студией и получать Оскаров. Он любил ее, несмотря ни на что, я точно знал это. Сэм оставался преданным еврейским мужем, а Сабина была тем единственным человеком, который освещал его жизнь.

Автобиографичные романы бывают разными. Порой – это воспоминания, воспроизведенные со скрупулезной точностью историка. Порой – мечтательные мемуары о душевных волнениях и перипетиях судьбы. А иногда – это настроение, которое ловишь в каждой строчке, отвлекаясь на форму, обтекая восприятием содержание. К третьей категории можно отнести «Верхом на звезде» Павла Антипова. На поверхности – рассказ о друзьях, чья молодость выпала на 2000-е годы. Они растут, шалят, ссорятся и мирятся, любят и чувствуют. Но это лишь оболочка смысла.
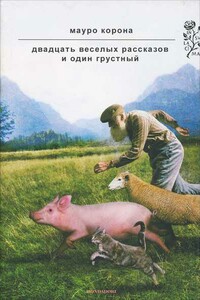
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
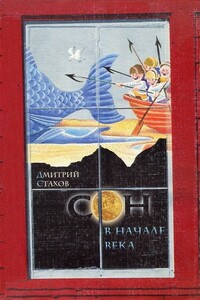
УДК 82-1/9 (31)ББК 84С11С 78Художник Леонид ЛюскинСтахов Дмитрий ЯковлевичСон в начале века : Роман, рассказы /Дмитрий Стахов. — «Олита», 2004. — 320 с.Рассказы и роман «История страданий бедолаги, или Семь путешествий Половинкина» (номинировался на премию «Русский бестселлер» в 2001 году), составляющие книгу «Сон в начале века», наполнены безудержным, безалаберным, сумасшедшим весельем. Весельем на фоне нарастающего абсурда, безумных сюжетных поворотов. Блестящий язык автора, обращение к фольклору — позволяют объемно изобразить сегодняшнюю жизнь...ISBN 5-98040-035-4© ЗАО «Олита»© Д.
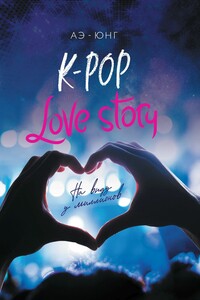
Элис давно хотела поработать на концертной площадке, и сразу после окончания школы она решает осуществить свою мечту. Судьба это или случайность, но за кулисами она становится невольным свидетелем ссоры между лидером ее любимой K-pop группы и их менеджером, которые бурно обсуждают шумиху вокруг личной жизни артиста. Разъяренный менеджер замечает девушку, и у него сразу же возникает идея, как успокоить фанатов и журналистов: нужно лишь разыграть любовь между Элис и айдолом миллионов. Но примет ли она это провокационное предложение, способное изменить ее жизнь? Догадаются ли все вокруг, что история невероятной любви – это виртуозная игра?
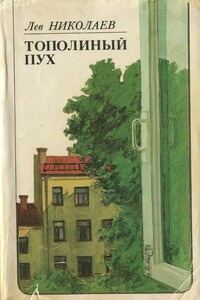
Очень просты эти понятия — честность, порядочность, доброта. Но далеко не проста и не пряма дорога к ним. Сереже Тимофееву, герою повести Л. Николаева, придется преодолеть немало ошибок, заблуждений, срывов, прежде чем честность, и порядочность, и доброта станут чертами его характера. В повести воссоздаются точная, увиденная глазами московского мальчишки атмосфера, быт послевоенной столицы.

Действие повести происходит в период 2-й гражданской войны в Китае 1927-1936 гг. и нашествия японцев.

В книгу, составленную Асаром Эппелем, вошли рассказы, посвященные жизни российских евреев. Среди авторов сборника Василий Аксенов, Сергей Довлатов, Людмила Петрушевская, Алексей Варламов, Сергей Юрский… Всех их — при большом разнообразии творческих методов — объединяет пристальное внимание к внутреннему миру человека, тонкое чувство стиля, талант рассказчика.

Роман «Эсав» ведущего израильского прозаика Меира Шалева — это семейная сага, охватывающая период от конца Первой мировой войны и почти до наших времен. В центре событий — драматическая судьба двух братьев-близнецов, чья история во многом напоминает библейскую историю Якова и Эсава (в русском переводе Библии — Иакова и Исава). Роман увлекает поразительным сплавом серьезности и насмешливой игры, фантастики и реальности. Широкое эпическое дыхание и магическая атмосфера роднят его с книгами Маркеса, а ироничный интеллектуализм и изощренная сюжетная игра вызывают в памяти набоковский «Дар».

Впервые на русском языке выходит самый знаменитый роман ведущего израильского прозаика Меира Шалева. Эта книга о том поколении евреев, которое пришло из России в Палестину и превратило ее пески и болота в цветущую страну, Эрец-Исраэль. В мастерски выстроенном повествовании трагедия переплетена с иронией, русская любовь с горьким еврейским юмором, поэтический миф с грубой правдой тяжелого труда. История обитателей маленькой долины, отвоеванной у природы, вмещает огромный мир страсти и тоски, надежд и страданий, верности и боли.«Русский роман» — третье произведение Шалева, вышедшее в издательстве «Текст», после «Библии сегодня» (2000) и «В доме своем в пустыне…» (2005).

Роман «Свежо предание» — из разряда тех книг, которым пророчили публикацию лишь «через двести-триста лет». На этом параллели с «Жизнью и судьбой» Василия Гроссмана не заканчиваются: с разницей в год — тот же «Новый мир», тот же Твардовский, тот же сейф… Эпопея Гроссмана была напечатана за границей через 19 лет, в России — через 27. Роман И. Грековой увидел свет через 33 года (на родине — через 35 лет), к счастью, при жизни автора. В нем Елена Вентцель, русская женщина с немецкой фамилией, коснулась невозможного, для своего времени непроизносимого: сталинского антисемитизма.