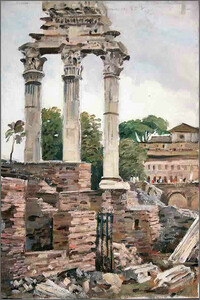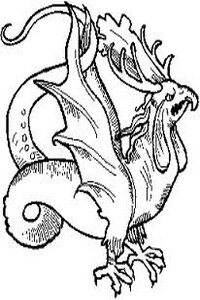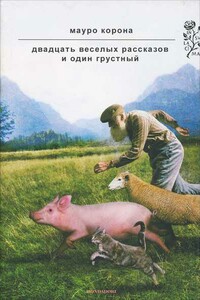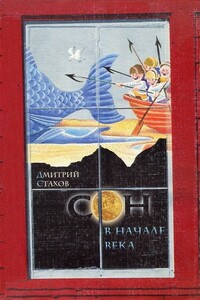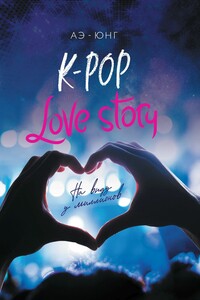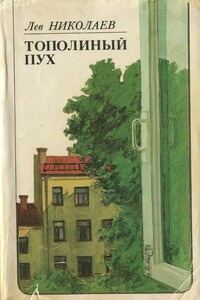Весь этот оркестр недугов, все инструменты пыток живого тела, звучащие в лад с какофонией мировой энтропии, сравним по разнообразию и пестроте только со списком тех грехов и страстей рода людского, которые сами суть болезни души.
Так вот, наша повесть о вторых, не будем отвлекаться на первые. Не нравится тебе, читатель, инсульт и синие ногти, придумай себе инфаркт — и красные. Сказано — яд, значит, яд, нечего спорить.
Так вот, анатом взглянул прилежней, хотя и кривился. Куратор почесал в затылке, плюнул, и возбудил дело.
Кто был рядом с покойным? Сиделка, жена, дочь — бабье царство. Года три назад был и сын, но утонул, ныряя с яхты на Карибах — полгода траур не снимали. Но не о сыне речь. Итак — сиделка, жена, дочь. Кто ещё? Разумеется, врач Никонов (см. портрет № 3). Кто ещё? Всё — покойный к старости сделался нелюдим и избегал гостей. Кто мог подсыпать яд?
Игнат начинает рыть и грызть, как крыса — ворох грязного тряпья на задворках больницы, где умирают.
Что он нарыл? Всё, что нужно. Но сперва портреты.
Портрет № 5. ЖЕНА
Звать Натальей, 47 лет. Была хороша собой, но неудачная пластика ускорила старость как хворостина — осла. Держится королевой, статна. Говорит так, что речь по плавности и переливам звучания делается похожа на песню с невнятным, но родным мотивом. Голос грудной, низкий. Была актрисой, теперь руководит любительским театром. Редкие появления на сцене вызывают овации знающей публики. Замужем не была никогда, детей родить не успела, любовников перестала считать после пятого.
Пишет исторический роман с тремя любовными линями и войной немцев в Африке. Пишет неплохо, но безнадёжно старомодно и длинно. Живи при Пушкине — говорила бы на французском, была бы модисткой или куртизанкой. Поэта бы ругала, но читала бы всё, что пропустит царская цензура.
Портрет № 6. ДОЧЬ
Вот дочь совсем не из этой повести, она из другого мира. Тихая, бледная красавица, с чертами грузинской княжны, в какую, несомненно, был влюблён Лермонтов, когда искал смерти и славы на Кавказе. Там, где ей следовало бы находиться, она одевалась бы в льняное платье с наборным серебряным поясом, с газырями на груди, чёрные свои косы убирала бы белым как снег платком. Когда она — юная княжна, склонялась бы к молодому гостю, чтобы самой наполнить его чарку из глиняного кувшина густым, чёрным почти вином, о, что за стихи о демоне и Тамаре сами рождались бы в разреженном воздухе гор.
Но её как, рыбу из воды, достали оттуда, и вот она здесь, в Городе, сирота и наследница богатств. Красива, скромна, тиха, говорит мало и негромко, девически краснеет, если гости за столом заговорят о любви. Набожна. Воскресные службы старается не пропускать. Учится на иностранной филологии — то ли романской, то ли английской: не помню. Но ей пошёл бы фарси. Девятнадцать лет.
Дать ли ей имя? Должно ли быть имя у прекрасной и тонкой девушки, сошедшей со страниц романа XIX века? Не звать ли её просто княжной? Нет уж. Раз случилось ей ожить, сердцу застучать и начать гнать по жилам кровь, а не чернила по строке, то должно быть имя. Нарекаю Ириной. Оставим её пока, ей тягостно наше внимание.
Портрет № 7. НЯНЬКА
Если бы нянька не присматривала за Марленом Андреевичем, умирающим патриархом, то сама слегла бы, и сидеть тогда у её изголовья внучке, и без того убитой своим трудом. А так — сиделка в чужом доме, нужна и при деле.
Всю жизнь проработала мед. сестрой, в буран, в непогоду, в минус сорок выезжала — было — в соседнюю область откачивать людей с мальчишкой-фельдшером и водителем-лагерником, который, выпив, рассуждал о Мандельштаме, поэзии зауми, обэриутах и, упомянув ненароком французское словечко, переходил, сам того не понимая, на французский, и тогда собутыльники не наливали ему больше. На русском он страшно, надсадно матерился, но трезвым был тих и ласков. От него мед. сестричка прижила троих детей: одного он сам, разодетый как на бал, водил в первый класс, а потом водка, драка, склока — и перо под ребра. Четыре дня хрипел, умирал, так страшно вращал распахнутыми, огромными на разом исхудавшем лице глазами, будто видел перед собой что-то похуже лагерного ада. Как схоронила его мед. сестра, так жизнь её и кончилась, умерла она, будто сама в могилу с ним легла.
Долгий срок (ей 75) доживала как придётся: заботясь о детях, потом о внуках — всем сердцем, но без души. Инстинктивной, животной лаской приголубливала детишек. Так кошка лижет котят и носит им задушенных мышей. Умрёт за них, а любила — сколько зим прошло — один раз, последний, чёрного кота с отмороженным ухом, вот тогда и жила.
Кому-кому, а ей точно имя не нужно — было, да она его изжила, став нарицанием. Мягкая, тяжёлая, тёплая, с пергаментной кожей и широкими ладонями, утешающим — всех одинаково утишающим — говорком, рассказами — одними и теми же, давно ставшими сказками, стёршимися, обкатанными в её рту, как галька. Такой же она сидела бы при лучине у изголовья сто или двести лет назад. Разве что уколы не умела бы ставить.
Вот вам трое. Ну, ладно — четверо, со врачом. Кто из них подсыпал яд? Во-первых, кто мог? Все могли. Этот яд не убьёт мгновенно, но приблизит смерть.