Давно и недавно - [76]
Тогда, в Болгарии, Галич интересовался моими стихами, но я многие не помнил на память. Он расспрашивал о моих пьесах. Две пьесы я написал в своей жизни: одну для телевидения, другую для театра. Слава богу, они не увидели света. Ибо это были всё же не очень зрелые вещи, а темы, которые я пытался разрабатывать, оказались недолговременными.
Как-то Галич спросил меня, что я думаю о нашей нынешней жизни.
— Серая, как штаны пожарника, — ответил я весёлой фразочкой. Ответил так смело, ибо мы были наедине.
Александр Аркадьевич преподал мне тогда некий краткий курс неприятия тоталитарного режима. Говорил он непривычно резко, горячо. Крамольные речи его вызывали у меня двоякое ощущение: я и соглашался, и не соглашался. Я сопротивлялся: дескать, не всё так плохо, есть достижения в науке, в национальной политике. Галич это всё умело парировал, говорил яростно, убеждённо. Чувствовалось, что всё это им выстрадано, что об этом думано-передумано. Запомнились его слова о роли поэтов-буревестников, о роли миннезингеров — бунтарей с гитарой, будящих спящую страну.
Вот слова Александра Галича, записанные мной в блокнот: «У нашего народа преждевременно состарились души. Мы, работники культуры, должны разбудить людей от вековой спячки, от вечной боязни. Человек рождается свободным. Нельзя жить скучно!»
Однажды, лёжа на пляже, мы заговорили о городском романсе, о лагерных и воровских песнях. Я сказал, что моя юность прошла в Одессе, и что я жил близ Привоза на знаменитой Молдаванке, и что я записывал понравившиеся мне песни у мелкого ворья, которое по вечерам собиралось в Ильичёвском парке. Александр Аркадьевич оживился, даже обрадовался. Юность Галича прошла тоже на юге, в Днепропетровске, оттуда и у него, как он сказал, любовь к уличному фольклору. Эта тяга к уличным песням чуть не вышла ему боком во время учёбы в Литинституте. Потом эта тема ушла у него в сторону, Галич начал писать пьесы, киносценарии. Его фильмы «На семи ветрах», «Верные друзья» полюбили и стар и млад.
— Не так давно мы создали в Москве песенный театр, — рассказывал мне Александр Аркадьевич. — Пришли молодые, азартные ребята, дело закрутилось. После спектаклей, вечеринок мы иногда, с оглядкой, пели воровские или, как их ещё называют, блатные песни. Говорят, песня — душа народа, так вот, в этих песнях есть тоже частица души народа, ведь треть нашего населения сидела. Это — наша жизнь, как ты ни крути. Сочиняли песни не только урки, сочиняли в лагерях и люди интеллигентные, талантливые. Сколько их, лагерей-то! Они, как прыщи, как язвы. От вашей Карелии до Магадана.
— Много собрали песен? — спросил я.
— Тысяча и одну.
— Неужто?
— Век свободы не видать, — засмеялся Галич и поддел большим пальцем верхний зуб.
И мы стали соревноваться. Назову песню — Галич кивает головой: знает. Одна, вторая, десятая. «Граждане, послушайте меня», «Я миленького знаю по походке», «Люби, детка, пока я на воле», «Дождик капал на рыло и на дуло нагана», «Вспомни-ка, милка, ты ветку сирени», «На столе лежит покойничек»…
— Ну, хорошо, хорошо. А вот эту знаете?
— Знаю, — отвечал азартно Галич.
— А вот эту?
— Конечно, знаю, завтра спою.
— И эту знаете, Александр Аркадьевич?
— Есть в моем гроссбухе. Есть.
Тогда я пустил в ход товар более крупного калибра — еврейские песни: «На Дерибасовской и угол Ришельевской», «Ах, поломали мине ножку, ха-ха», «Шли мы раз на дело, я и Рабинович», «Жил я в шумном городе Одессе», «Оц-тоц, Зоя». Ну и, наконец, ту, которую любил мой одесский дружок Гриша Мостовецкий. Я даже спел, пританцовывая фигурами из «фрейлекса»:
Всё это у Александра Аркадьевича было в той толстой заветной тетради — гроссбухе. Из всего моего запаса Галич не знал только одну песню, и я её тут же записал ему:
…Быстро пролетел месяц. 22 мая 1963 года, на прощальном банкете Борис Савельевич Ласкин прочёл только что испечённые стихи в адрес Дома, в адрес доброго Петра Стоилкова:
Мы сидели рядом, и Борис Савельич тут же написал мне на открытке, где изображён «Дом на журналистите», эти бесхитростные строки.

Книга рассказывает о юных защитниках Родины в годы Великой Отечественной войны. Герои этой книги ныне живут в Петрозаводске.

Главная героиня повести — жительница Петрозаводска Мария Васильевна Бультякова. В 1942 году она в составе группы была послана Ю. В. Андроповым в тыл финских войск для организации подпольной работы. Попала в плен, два года провела в финских тюрьмах и лагерях. Через несколько лет после освобождения — снова тюрьмы и лагеря, на этот раз советские… [аннотация верстальщика файла].

«Художественно-документальная повесть о карельских девушках-разведчицах Героях Советского Союза Анне Лисицыной и Марии Мелентьевой. На основе архивных материалов и воспоминаний живых свидетелей автор воссоздаёт атмосферу того времени, в котором происходило духовное становление героинь, рассказывает о кратком боевом пути разведчиц, о их героической гибели.».

«Повесть рассказывает о судьбе знатного лесозаготовителя республики кавалера ордена Ленина Э. В. Туоми, финна, приехавшего из Канады в 30-е годы и нашедшего здесь свою настоящую Родину. Герой повести участвовал в сооружении памятника В. И. Ленину в г. Петрозаводске в 1933 году.».
![Минута жизни [2-е изд., доп., 1986]](/storage/book-covers/3c/3c7f35abcd5aebe2413f0895f53c3182ff798883.jpg)
«В книге рассказывается о нашем земляке Герое Советского Союза Николае Ивановиче Ригачине, повторившем подвиг Александра Матросова. Адресована широкому кругу читателей.».

Повесть о Герое Советского Союза, танкисте Алексее Николаевиче Афанасьеве (1916—1968), уроженце Карелии, проживавшем после войны в городе Петрозаводске. [аннотация верстальщика файла].

Саладин (1138–1193) — едва ли не самый известный и почитаемый персонаж мусульманского мира, фигура культовая и легендарная. Он появился на исторической сцене в критический момент для Ближнего Востока, когда за владычество боролись мусульмане и пришлые христиане — крестоносцы из Западной Европы. Мелкий курдский военачальник, Саладин стал правителем Египта, Дамаска, Мосула, Алеппо, объединив под своей властью раздробленный до того времени исламский Ближний Восток. Он начал войну против крестоносцев, отбил у них священный город Иерусалим и с доблестью сражался с отважнейшим рыцарем Запада — английским королем Ричардом Львиное Сердце.

Валерий Тарсис — литературный критик, писатель и переводчик. В 1960-м году он переслал английскому издателю рукопись «Сказание о синей мухе», в которой едко критиковалась жизнь в хрущевской России. Этот текст вышел в октябре 1962 года. В августе 1962 года Тарсис был арестован и помещен в московскую психиатрическую больницу имени Кащенко. «Палата № 7» представляет собой отчет о том, что происходило в «лечебнице для душевнобольных».

Автору этих воспоминаний пришлось многое пережить — ее отца, заместителя наркома пищевой промышленности, расстреляли в 1938-м, мать сослали, братья погибли на фронте… В 1978 году она встретилась с писателем Анатолием Рыбаковым. В книге рассказывается о том, как они вместе работали над его романами, как в течение 21 года издательства не решались опубликовать его «Детей Арбата», как приняли потом эту книгу во всем мире.
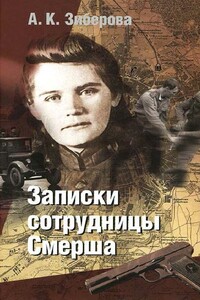
Книга А.К.Зиберовой «Записки сотрудницы Смерша» охватывает период с начала 1920-х годов и по наши дни. Во время Великой Отечественной войны Анна Кузьминична, выпускница Московского педагогического института, пришла на службу в военную контрразведку и проработала в органах государственной безопасности более сорока лет. Об этой службе, о сотрудниках военной контрразведки, а также о Москве 1920-2010-х рассказывает ее книга.
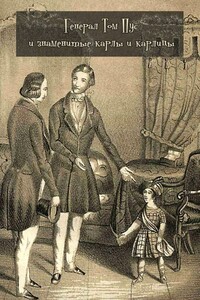
Книжечка юриста и детского писателя Ф. Н. Наливкина (1810 1868) посвящена знаменитым «маленьким людям» в истории.
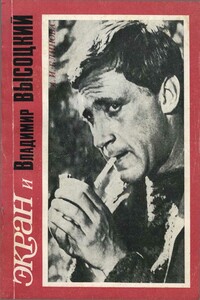
В работе А. И. Блиновой рассматривается история творческой биографии В. С. Высоцкого на экране, ее особенности. На основе подробного анализа экранных ролей Владимира Высоцкого автор исследует поступательный процесс его актерского становления — от первых, эпизодических до главных, масштабных, мощных образов. В книге использованы отрывки из писем Владимира Высоцкого, рассказы его друзей, коллег.