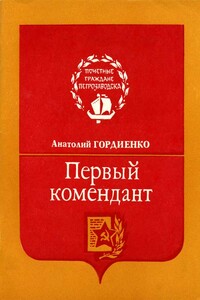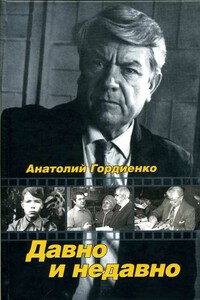Тане — внучке Героя Советского Союза Николая Ригачина посвящается
Август выдался горячий. С утра выплывает белое солнце и жалит в голову. И ничто в степи не может защитить от лучей, прямых и коротких, будто нож.
Ярко-синее небо режет глаза.
Земля на переспевшем пшеничном поле вся в мелких трещинах, как старческая ладонь.
Муравьи толкутся, пятятся и снова пытаются пройти по знакомой дороге. Новые бегут, бегут цепочкой — ищут выхода, а трещины разбили землю на квадраты, как на карте у батальонного.
Николай долго смотрит и наконец вырывает пересохший, стоящий над окопом сиротливый стебель пшеницы. Тяжёлый колос пригнул стебель к земле, и он похож на дымный след ракеты. Так показалось уставшему Николаю вчера вечером, когда он, занимая оборону, увидел тёмный контур колоса на красном закате.
Крепкими прокуренными ногтями Николай разорвал стебель и сделал из него мостик через расщелину. Муравьи потолкались возле стебелька, но выходить из квадрата не решились.
— Колька, на яблоко! — кричит Саня Любченко.
Николай, пригнувшись больше для взводного, чем для дела, бежит к нему.
— Рано заправляешься, Любушка.
— Снится мне сон, понимаешь-нет, — говорит Любченко, быстро вытирая о гимнастёрку зеленоватое яблоко. — Антоновка ещё не в пору, — кривится он. — Снится мне, что вроде бы я дома, понимаешь-нет. И мать вроде бы к столу меня с поклоном просит: «Сашок, сыночек мой, не забыл про мать, приехал».
И всё в хате мне вроде незнакомо. На образах в углу широкий рушник, есть у нас такой — красные девки стоят с коромыслами у криницы, мама вышивала давно, невестою. Сижу я за столом. Чистый сижу, умытый, читаю на рушнике: «Не красна хата углами, а красна пирогами».
Тут меня Грищенко разбудил… Понимаешь-нет, он вчера в деревеньке у деда выдурил полпротивогазной сумки самосаду. Ну, пришлось мне, значит, для обмена с ним за яблоками в сад ночью сбегать. Теперь и яблоки, и табачок у нас… Угощайся.
— Жара-то сегодня, Саня…
— Глянь, Семёныч идет…
Из канавы, из молодого орешника, отделявшего сад от пшеничного поля, вышли комиссар Тюков и взводный Ермилов.
Николай хотел было бежать в свой окоп, да пока раздумывал — начальство рядом.
— Взвод, ко мне! — крикнул младший лейтенант — высокий, худой паренёк.
Подошёл комиссар, человек немолодой, степенный, неторопливый, до невозможного сощурил глаза — очки потерял ещё где-то под Каменец-Подольском — и от этого казался добрым, беззащитным. Все знали, что родом он из Саратова и на гражданке работал не то в горсовете, не то в потребсоюзе.
Подошли ещё шестеро — всё, что осталось от взвода.
— Угощайся, Семёныч, — и Саня протянул комиссару противогазную сумку с табаком.
— Да, не велик актив, — вздохнул тот в ответ.
— А ты что думал, нас за ночь прибыло? — угрюмо заметил седоусый Никитюк.
— Вот бумажка, закуривай, — и Любченко подал комиссару немецкую листовку.
— Ты где взял? — быстро спросил взводный.
— В саду, товарищ младший лейтенант! — как на плацу выпалил Санька.
У взводного не было щетины — не выросла ещё, не успела, — и все увидели, как он густо покраснел.
— Какая разница, где взял, — сказал Тюков. — Все мы тут знаем друг друга, с первого боя вместе. Это я тебе говорю, младший, ты человек у нас новый… — Семёныч придвинул к глазам листовку, стал неторопливо читать.
«Солдаты 12-й армии, вы давно окружены. Сопротивление бессмысленно…» Ну, дальше, как всегда, о политруках и евреях… А связи действительно с дивизией нет, где кто — тоже не ясно. Ясно одно — надо идти на восток.
— Ночью через село проехали какие-то сапёры, сказали — штаб в Первомайске, — первым нарушил тишину Николай.
— А я б двинул на эту, на Христиновку, — вставил Любченко.
— На кого ж мы ничь чекалы?[1] — спросил, заикаясь, Грищенко.
— Приказ комполка. Там пушки на себе тянут, раненых вывозят… — ответил взводный.
— За ночь где бы уже были, — буркнул Николай.
— Ни жратвы, ни патронов, — ворчал Никитюк. — И окопались вдоль дороги, надо было к саду…
— Никак танки, — прошептал комиссар.
— По местам! — скомандовал младший лейтенант, странно округлив глаза.
Грищенко и Никитюк скрылись в первых окопах, им достались две последние связки гранат.
Николай переложил в нагрудные карманы две обоймы — весь запас, по привычке потёр прицел рукавом.
Осторожно приподнялся, раздвинул пшеницу. В густой пыли различил три танка и четыре грузовика с пехотой.
— Любаша, слышь, Любаша, — позвал Николай.
Санька тоже смотрел вперёд. И думал, что передним сегодня повезло, как никогда…
Первый танк загорелся…
Немцы повернули назад, забарабанил крупнокалиберный пулемёт. Николай, тщательно прицелившись, два раза выстрелил по передней машине.
Пехота метнулась к пшеничному полю, а два танка, разобравшись что к чему, пошли к саду, огибая дорогу.
Николай повернулся и осторожно привстал вровень с колосьями. Поодаль, над жёлтой замершей пшеницей, медленно поворачиваясь из стороны в сторону, плыла чёрная наклонённая пушка.
Первый снаряд разорвался около сада. Второй пролетел через дорогу. Сзади за спиной Николая быстро зашуршала пшеница.
— Отходи к саду! — послышался испуганный голос Любченко.
— Куда вы, ребята? — донёсся голос взводного.
![Минута жизни [2-е изд., доп., 1986]](/storage/book-covers/3c/3c7f35abcd5aebe2413f0895f53c3182ff798883.jpg)