Давно и недавно - [75]
— Семьдесят тысяч рублей! Семьдесят одна! Семьдесят одна с половиной! Семьдесят две! Семьдесят две с половиной! Семьдесят три! Семьдесят четыре с половиной!..
— Сто восемьдесят тысяч, стервы!
Это во всю глотку кричал выпивший актёр Сергей Филиппов. Его увела милиция. А у него в кармане было всего шесть рублей.
Цитата из Уксусова
Писатель Уксусов в своём романе написал: «Хотя Аркадий Полянский был еврей, своё оружие он держал в чистоте».
Ласкин хорошо плавал, и мы часто заплывали на небольшой остров.
— У вас в Карелии есть море?
— Есть, есть, — отвечал я
— А Кижи у вас деревянные есть?
— Есть, есть. В Карелии всё есть.
— А у вас в Карелии есть финны?
— Есть — Финкельштейн и Фининспектор.
Борис Савельевич внимательно рассматривал меня.
— Сами придумали?
— Нет, нет. Но совсем недавно услышал.
— Имеющие уши да услышат. Будете в Москве — заходите.
Почему ему понравился этот примитивный анекдот, неужто он его не знал?
…Иногда Ласкин и Галич уединялись. Они не показывались на пляже после завтрака, с опозданием приходили к обеду. Приходили усталые и недовольные.
— Пытались сочинять, — объяснял нам Ласкин.
— Но муза — гулящая девушка. Где-то гуляет, а к нам глаз не кажет, — добавлял Галич.
…Листаю вторую записную книжку. Александр Аркадьевич Галич, похож на умного, чистого, хорошо кормленого кота, с которым приятно играть или просто сидеть и молчать. Добрые глаза, изящные чёрные усики, небольшой нос, изморозь в волосах. Тонкий, длинный мундштук с сигаретой в изящно откинутой загорелой руке.
Галич — самый модный из советских мужчин в нашем Доме. Импортная рубашечка с вышитым красным якорьком на левом кармашке, импортные плавки. Умный, простой, без всякой фанаберии. Этого, впрочем, нет и у Ласкина. Многознающие, приятные, сорокапятилетние мужчины, от которых пахнет дорогим чужим одеколоном.
Александр Галич и Анатолий Гордиенко. Болгария, май 1963 г.
Александр Аркадьевич играл на гитаре не ахти как и с радостью принял несколько моих аккордов. Он пел свои и не свои песни. Своих у него тогда было не так много. Каждый вечер, в час назначенный, мы слушали его на веранде. Нравились мне две печальные песни: «Тихо капает вода, кап-кап» и «Ах, поле, поле, поле». Песню про поле он, по моей просьбе, переписал на отдельном листике:
Как-то мы сидели у Аким-бея. Тот был в повседневной форме — замызганная белая капитанская фуражка и чужие, подаренные каким-то постояльцем шорты, из которых торчали полные волосатые ноги. Аким-бей принёс нам холодное пиво да так и застыл с бутылками у нашего стола, вслушиваясь в слова, которые пел Галич:
Но больше всего ударяла в моё тогда ещё молодое сердце песня на стихи Межирова «Мы под Колпино скопом стоим». Кстати, замечу, Галич пел эти песни только для своих, только для нас, для узкого круга. А как же иначе? Разве можно было тогда во всеуслышание сказать такое:
Как пел эту песню Галич! Это уже была не песня, а некий горестный гимн нашей прошлой, довоенной, военной и нынешней жизни. Конечно, слова эти были такой дьявольской силы, которая останавливала дыхание, и хотелось плакать горючими, непрекращающимися слезами.
Позже, где-то в восьмидесятые годы, когда уже не было в живых Галича, в Петрозаводск приехал Александр Межиров. После записи его у нас на телевидении я стал рассказывать ему о тех памятных вечерах в Болгарии. Межиров улыбался и кивал головой, а когда я перешёл к Галичу, к тому, как пел он «Перелёт, недолёт, перелёт», Межиров тут же глянул на часы и заторопился к выходу. Неужели и он, Межиров, боялся того застойного брежневского времени? Он, автор знаменитого стиха «Коммунисты, вперёд», кстати, крепко сбитого железного стиха. К тому времени Галич уже был трижды проклят за свои песни, за свободомыслие был выслан из страны, его имя вычеркнули отовсюду, о нём нигде не говорили вслух.
Потом уже Александр Аркадьевич Галич вернулся в Россию. Песнями своими вернулся. После своей странной смерти в Париже в 1977 году. «Я, конечно, вернусь», — пел он при жизни; ан нет, не вышло, не судьба.

Книга рассказывает о юных защитниках Родины в годы Великой Отечественной войны. Герои этой книги ныне живут в Петрозаводске.

Главная героиня повести — жительница Петрозаводска Мария Васильевна Бультякова. В 1942 году она в составе группы была послана Ю. В. Андроповым в тыл финских войск для организации подпольной работы. Попала в плен, два года провела в финских тюрьмах и лагерях. Через несколько лет после освобождения — снова тюрьмы и лагеря, на этот раз советские… [аннотация верстальщика файла].

«Художественно-документальная повесть о карельских девушках-разведчицах Героях Советского Союза Анне Лисицыной и Марии Мелентьевой. На основе архивных материалов и воспоминаний живых свидетелей автор воссоздаёт атмосферу того времени, в котором происходило духовное становление героинь, рассказывает о кратком боевом пути разведчиц, о их героической гибели.».

«Повесть рассказывает о судьбе знатного лесозаготовителя республики кавалера ордена Ленина Э. В. Туоми, финна, приехавшего из Канады в 30-е годы и нашедшего здесь свою настоящую Родину. Герой повести участвовал в сооружении памятника В. И. Ленину в г. Петрозаводске в 1933 году.».
![Минута жизни [2-е изд., доп., 1986]](/storage/book-covers/3c/3c7f35abcd5aebe2413f0895f53c3182ff798883.jpg)
«В книге рассказывается о нашем земляке Герое Советского Союза Николае Ивановиче Ригачине, повторившем подвиг Александра Матросова. Адресована широкому кругу читателей.».

Повесть о Герое Советского Союза, танкисте Алексее Николаевиче Афанасьеве (1916—1968), уроженце Карелии, проживавшем после войны в городе Петрозаводске. [аннотация верстальщика файла].

Саладин (1138–1193) — едва ли не самый известный и почитаемый персонаж мусульманского мира, фигура культовая и легендарная. Он появился на исторической сцене в критический момент для Ближнего Востока, когда за владычество боролись мусульмане и пришлые христиане — крестоносцы из Западной Европы. Мелкий курдский военачальник, Саладин стал правителем Египта, Дамаска, Мосула, Алеппо, объединив под своей властью раздробленный до того времени исламский Ближний Восток. Он начал войну против крестоносцев, отбил у них священный город Иерусалим и с доблестью сражался с отважнейшим рыцарем Запада — английским королем Ричардом Львиное Сердце.

Валерий Тарсис — литературный критик, писатель и переводчик. В 1960-м году он переслал английскому издателю рукопись «Сказание о синей мухе», в которой едко критиковалась жизнь в хрущевской России. Этот текст вышел в октябре 1962 года. В августе 1962 года Тарсис был арестован и помещен в московскую психиатрическую больницу имени Кащенко. «Палата № 7» представляет собой отчет о том, что происходило в «лечебнице для душевнобольных».

Автору этих воспоминаний пришлось многое пережить — ее отца, заместителя наркома пищевой промышленности, расстреляли в 1938-м, мать сослали, братья погибли на фронте… В 1978 году она встретилась с писателем Анатолием Рыбаковым. В книге рассказывается о том, как они вместе работали над его романами, как в течение 21 года издательства не решались опубликовать его «Детей Арбата», как приняли потом эту книгу во всем мире.
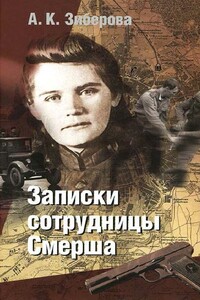
Книга А.К.Зиберовой «Записки сотрудницы Смерша» охватывает период с начала 1920-х годов и по наши дни. Во время Великой Отечественной войны Анна Кузьминична, выпускница Московского педагогического института, пришла на службу в военную контрразведку и проработала в органах государственной безопасности более сорока лет. Об этой службе, о сотрудниках военной контрразведки, а также о Москве 1920-2010-х рассказывает ее книга.
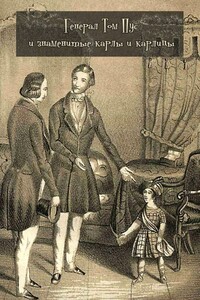
Книжечка юриста и детского писателя Ф. Н. Наливкина (1810 1868) посвящена знаменитым «маленьким людям» в истории.
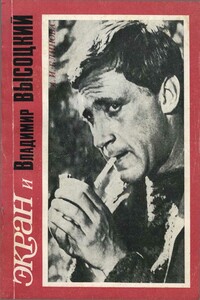
В работе А. И. Блиновой рассматривается история творческой биографии В. С. Высоцкого на экране, ее особенности. На основе подробного анализа экранных ролей Владимира Высоцкого автор исследует поступательный процесс его актерского становления — от первых, эпизодических до главных, масштабных, мощных образов. В книге использованы отрывки из писем Владимира Высоцкого, рассказы его друзей, коллег.