Чаадаевское дело. Идеология, риторика и государственная власть в николаевской России - [82]
В апреле 1836 г., отчаявшись разорвать связь между Надеждиным и Елизаветой Васильевной, родственники приняли решение увезти Сухово-Кобылину за границу[751]. Формальным предлогом для поездки стало слабое здоровье двух сестер – Елизаветы и Евдокии (Душеньки). Отъезд был запланирован, как следует из писем, на конец мая 1836 г.[752] Сухово-Кобылина писала Надеждину: «Велят ехать в чужие краи, в Мариенбад, а оттуда зимовать в Италию. Боже! – а я где буду! – Ужели ты отпустишь меня»[753] – и в другом письме уточняла: «Сей час сказали и решительно, что я бы и могла перенести ‹нрзб› зиму, но Душенька никак не может. Мы едем! – Едем! В Мариенбад и оттуда зимовать в Италию и воротимся через полтора года. Я без ума – не знаю что говорить – ради Бога – я не знаю – или – или – я не придумаю – что станется с нами – голова кружится – я с ума схожу – а ты не говоришь ни слова, опять ничего!»[754]
Продолжительная пауза в живом общении фактически означала разрыв. Сухово-Кобылина прекрасно отдавала себе в этом отчет и упрекала Надеждина: «У меня перед глазами твоя нерешительность и путешествие полутора году. Как будто развязка придет сама собою. Разве ты не понял, что мои убьют и тебя и меня – а не отдадут нас друг другу. ‹…› Три года – какая любовь не пройдет три года – особенно у мужчины. Это мы нещастные создания осуждены на вечное мучение!»[755] По мере приближения отъезда Сухово-Кобылиных драматизм ситуации нарастал. В письме от 21 апреля 1836 г., предупреждая желание Надеждина, Сухово-Кобылина замечала: «Одно, что я тебе решительно запрещаю – это ехать за нами, или навстречу. Ты себя погубишь, да и меня тут-же. Пока я здесь, делай что хочешь, но ехать за мной в чужие краи и не думай. Я тебе этого не позволяю, слышишь-ли мой обожаемой друг – мой милой ангел»[756]. Днем позже она добавляла: «Ехать тебе за мной нельзя! Тебя убьют! Москва заговорит что ты умчался за мною – тебя убьют! Убьют! они только что и ждут, мои чтобы к тебе придраться и убить»[757].
В начале мая Елизавета Васильевна, по ее собственным словам, предприняла неудачную попытку самоубийства («Я пила уксус – пила три дня по стакану – но желудок мой не выносил – как только проглочу – всё назад, после маленькой тошноты. – На третий день однако я стала замечать что боль в груди усилилась, и уже желудок привык и не отсылает назад. Но это всё открылось»[758]). Уже перед самым выездом из Москвы она просила: «Да еще не пиши-же ты глупостей в Телескопе, береги себя – ведь еще Катенька Пылаева будет так голову свернут – ей Богу»[759], что в свете последовавших осенью 1836 г. событий и союза Надеждина с Чаадаевым звучит как зловещее пророческое предостережение. Впрочем, один выход из ситуации по-прежнему оставался актуальным. С точки зрения Сухово-Кобылиной, Надеждин мог увезти ее из дома, пока семейство все еще оставалось в Москве:
Рассуждая хладнокровно, милой ангел – увезти меня с дороги вряд-ли можно. Умереть и погубить всё – вот кажется всё что выдет. ‹…› Если только возможно взять меня – возми – это мое желание – но если нельзя – я покорюсь уеду. Что будет, то будет! Вести себя иначе не могу – пожалей, а не брани. В чужих краях должна буду являться на всех балах – делать нечего. – Не будь мелочен! – Ведь мы принадлежим друг другу, то и делай как знаешь сам! – Боюсь что в дороге, тебя сей час откроют и мы пропали! Не знаю что делать. Отсюда лучше увезти меня – право. – Не забудь что мы едем не в дилижансе и что нас провожать верно будут дядя, брат а может и еще кто[760].
Видимо, именно в этот момент и мог произойти эпизод, описанный Герценом со слов Кетчера, о котором мы упоминали выше. Впрочем, Кетчер был не единственным свидетелем, рассказавшим о деталях несостоявшегося бегства Сухово-Кобылиной. Близкую по смыслу версию изложил в своих воспоминаниях сотрудник «Телескопа» И. В. Селиванов, хорошо знавший Надеждина в 1830-х гг.[761]
Селиванов описал историю побега с многочисленными подробностями. Он не называл года, в котором происходили события, но отмечал, что речь шла об июне[762]: дело было назначено на дни, предшествовавшие Петровскому или Петрову посту (за трое суток до его начала): «Три дня эти были назначены потому, что после них начинается Петровский пост, в который венчать нельзя, а потом как об этом было получено сведение из дома девушки, родители ее собирались увезти за границу. Следственно надо было торопиться»[763]. О похищении невесты в июне 1834 г. говорить сложно – летом этого года роман Надеждина и Сухово-Кобылиной находился на ранней стадии. В 1835 г. Петров пост начинался 2 июня, а журналист в тот момент намеревался отправиться в заграничное путешествие. Как мы знаем из письма С. Т. Аксакова Надеждину от 10 июня, он знал, что отъезду предшествовали напряженные переговоры между влюбленными, однако о сорвавшейся попытке увоза никак не упоминал[764]. Более того, в 1835 г. Сухово-Кобылины не планировали отправляться в Европу. По всей видимости, Селиванов рассказывал о происшествии 1836 г. Тогда Пасха была ранней и приходилась на 30 марта. Соответственно, Троица выпала на 17 мая, а Петров пост начался 24 мая и продолжался 36 дней. Вероятно, события, переданные Селивановым, случились не в июне, а в начале третьей декады мая. Год действия подтверждается и дневниковой записью А. В. Сухово-Кобылина, который датировал «несостоявшееся бегство сестры» именно 1836 г.

Монография, посвященная специфическому и малоизученному пласту американской неформальной лексики, – сленгу военнослужащих армии США. Написанная простым и понятным языком, работа может быть интересна не только лингвистам и военным, но и простым читателям.

Ноам Хомский, по мнению газеты Нью-Йорк Таймс, самый значимый интеллектуал из ныне живущих. В России он тоже популярный автор, один из властителей дум. Боб Блэк в этой книге рассматривает Хомского как лингвиста, который многим представляется светилом, и как общественного деятеля, которого многие считают анархистом. Пришла пора разобраться в научной работе и идеях Хомского, если мы хотим считаться его единомышленниками. И нужно быть готовыми ко всесторонней оценке его наследия – без церемоний.

Андре Моруа – известный французский писатель, член Французской академии, классик французской литературы XX века. Его творческое наследие обширно и многогранно – психологические романы, новеллы, путевые очерки, исторические и литературоведческие сочинения и др. Но прежде всего Моруа – признанный мастер романизированных биографий Дюма, Бальзака, Виктора Гюго и др. И потому обращение писателя к жанру литературного портрета – своего рода мини-биографии, небольшому очерку, посвященному тому или иному коллеге по цеху, – не было случайным.

Институт литературы в России начал складываться в царствование Елизаветы Петровны (1741–1761). Его становление было тесно связано с практиками придворного патронажа – расцвет словесности считался важным признаком процветающего монархического государства. Развивая работы литературоведов, изучавших связи русской словесности XVIII века и государственности, К. Осповат ставит теоретический вопрос о взаимодействии между поэтикой и политикой, между литературной формой, писательской деятельностью и абсолютистской моделью общества.
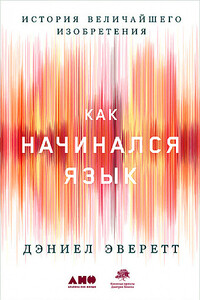
«Как начинался язык» предлагает читателю оригинальную, развернутую историю языка как человеческого изобретения — от возникновения нашего вида до появления более 7000 современных языков. Автор оспаривает популярную теорию Ноама Хомского о врожденном языковом инстинкте у представителей нашего вида. По мнению Эверетта, исторически речь развивалась постепенно в процессе коммуникации. Книга рассказывает о языке с позиции междисциплинарного подхода, с одной стороны, уделяя большое внимание взаимовлиянию языка и культуры, а с другой — особенностям мозга, позволившим человеку заговорить. Хотя охотники за окаменелостями и лингвисты приблизили нас к пониманию, как появился язык, открытия Эверетта перевернули современный лингвистический мир, прогремев далеко за пределами академических кругов.

В 1856 году известный археолог и историк Алексей Сергеевич Уваров обратился к членам Академии наук с необычным предложением: он хотел почтить память своего недавно скончавшегося отца, бывшего министра народного просвещения С. С. Уварова, учредив специальную премию, которая должна была ежегодно вручаться от имени Академии за лучшую пьесу и за лучшее исследование по истории. Немалые средства, полагавшиеся победителям, Уваров обещал выделять сам. Академики с благодарностью приняли предложение мецената и учредили первую в России литературную премию.

Представление об «особом пути» может быть отнесено к одному из «вечных» и одновременно чисто «русских» сценариев национальной идентификации. В этом сборнике мы хотели бы развеять эту иллюзию, указав на относительно недавний генезис и интеллектуальную траекторию идиомы Sonderweg. Впервые публикуемые на русском языке тексты ведущих немецких и английских историков, изучавших историю довоенной Германии в перспективе нацистской катастрофы, открывают новые возможности продуктивного использования метафоры «особого пути» — в качестве основы для современной историографической методологии.
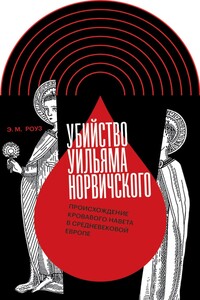
В 1144 году возле стен Норвича, города в Восточной Англии, был найден изувеченный труп молодого подмастерья Уильяма. По городу, а вскоре и за его пределами прошла молва, будто убийство – дело рук евреев, желавших надругаться над христианской верой. Именно с этого события ведет свою историю кровавый навет – обвинение евреев в практике ритуальных убийств христиан. В своей книге американская исследовательница Эмили Роуз впервые подробно изучила первоисточник одного из самых мрачных антисемитских мифов, веками процветавшего в массовом сознании.

Книга посвящена литературным и, как правило, остро полемичным опытам императрицы Екатерины II, отражавшим и воплощавшим проводимую ею политику. Царица правила с помощью не только указов, но и литературного пера, превращая литературу в политику и одновременно перенося модную европейскую парадигму «писатель на троне» на русскую почву. Желая стать легитимным членом европейской «république des letteres», Екатерина тщательно готовила интеллектуальные круги Европы к восприятию своих текстов, привлекая к их обсуждению Вольтера, Дидро, Гримма, приглашая на театральные представления своих пьес дипломатов и особо важных иностранных гостей.

Книга посвящена истории русской эмоциональной культуры конца XVIII – начала XIX века: времени конкуренции двора, масонских лож и литературы за монополию на «символические образы чувств», которые образованный и европеизированный русский человек должен был воспроизводить в своем внутреннем обиходе. В фокусе исследования – история любви и смерти Андрея Ивановича Тургенева (1781–1803), автора исповедального дневника, одаренного поэта, своего рода «пилотного экземпляра» человека романтической эпохи, не сумевшего привести свою жизнь и свою личность в соответствие с образцами, на которых он был воспитан.