Буковски. Меньше, чем ничто - [68]
Писатель, который приходит слишком поздно, вынужден находить силу в слабости и выдавать отсутствие за присутствие. Его мастерство противоположно классическому мастерству нормального, пришедшего вовремя писателя. Его удовольствия – это удовольствия проклятых, где боль оказывается наслаждением, трагедия – счастьем, а смерть – только поводом для того, чтобы смахнуть пыль с печатной машинки. А что прикажете делать, когда всё исчезло – политика и история, субъект и сам человек?.. Разве что наслаждаться:
Вместо заключения
Хитрость обреченного, или Новая одиссея
Мы окажемся в плену у непростительной наивности, если всерьез начнем рассматривать маргинального автора в образах и терминах, в которых он сам себя представляет и описывает. Исследователь должен увидеть в аутомифопоэтических описаниях прежде всего ту стратегию, с помощью которой автор пытается попасть в литературное поле и в нем закрепиться, заработав серьезный символический капитал. Спорить с этим глупо. Но не менее глупо спорить и с тем, что выработка такой стратегии требует оригинального, личностного мастерства, что без определенного субъективного усилия в литературное поле вообще бы ничего, кроме безличных точек и запятых, не попадало бы.
В общем-то, нет никакого противоречия в том, что рьяное отыгрывание позиции изгоя – это лишь способ найти себе место в той сложной системе, от которой автор показным образом открещивается. Поза исключенного, изгоя по собственной воле, оказывается лучшим, веками освященным способом активного, агрессивного вмешательства в нормативное, исключающее пространство. Пьер Бурдье прозорливо замечает, что авангардист еще больше вовлекается в (якобы) отрицаемую им систему, нежели рядовой ее функционер: «Парадоксальным образом присутствие специфического прошлого более всего заметно у авангардных производителей. Прошлое детерминирует их даже в стремлении преодолеть прошлое, потому что это стремление связано с определенным состоянием истории поля»[147].
Авангардист привязан к традиции именно тем, что он стремится ее преодолеть. Чтобы ее преодолеть, нужно ее знать, причем в потенции знать лучше, чем все те, кто существует внутри этой традиции и живет по ее законам, – этим не обязательно прыгать выше головы, они только следуют правилам. Авангардисту, конечно, труднее, чем условному конформисту: ему приходится работать вдвойне – один раз над собственными произведениями, второй раз, поверх произведений, над техниками преодоления традиции. Однако эта переработка оплачивается символическими (имеющими тенденцию конвертироваться в материальные) дивидендами. Именно из авангардистов чаще всего, во всяком случае в последние два столетия, получаются действительно сильные авторы. Их сила возникает из установки на то, чтобы быть сильнее целой традиции, то есть самых лучших ее представителей. Авангардист – это автор, используя терминологию Гарольда Блума, с наибольшим страхом влияния, мотивирующим его становиться сильнее величайших его предшественников. Художественный конформист, очевидно, также имеет страх влияния, но он перед ним пасует, интериоризирует его на уровне культурных нормативов, тем самым отказываясь от самой попытки сублимировать этот страх в произведении. Конформист не делает ставку, тогда как авангардист живет в этой ставке – конечно, ва-банк – без всякого остатка.
Со временем, впрочем, авангардная, маргинальная изнанка культуры вырабатывает собственные штампы, которые от постоянного повторения рискуют стать (и действительно становятся) конформистскими. Так, писатель-изгой по определению избегает нормативных салонов, редакций, сообществ и прочих сборищ для писателей-конформистов; изгой публикуется поздно, проходя через затяжное чистилище беззвестности; изгой всегда беден и неприкаен, его завтрашний день как в тумане; часто изгой обращается к алкоголю, наркотикам или распутному образу жизни, лишь бы хоть как-то заглушить в себе горечь невостребованности (подобное путешествие на край ночи возводится в добродетель и аранжируется пафосом близости к персонажам городского дна более, чем к нормальным людям); изгой саркастичен и желчен по адресу сытого общества, в особенности же по адресу своих конформистских коллег, которые греются у богатой кормушки, ничего из себя не представляя с художественной точки зрения – и прочее, прочее. Что-то нам всё это напоминает.
Все эти «изгойские» шаблоны и правда легко примеряются на литературную фигуру Чарльза Буковски, этого образцового писателя-изгоя. Он социальный и профессиональный аутсайдер, он публикуется поздно и в маргинальных изданиях, он пьет и безумствует, он всех, вообще всех, ненавидит. Его положение трудно вдвойне: он страдает от всего вышеперечисленного, но также страдает – в этом не приходится сомневаться – и от того, что все эти старые авангардные атрибуты ему приходится делить с толпой таких же как он литературных изгоев, печатающихся в тех же дешевых журналах и пьющих те же сорта паленой сивухи, что и он сам. Буковски –
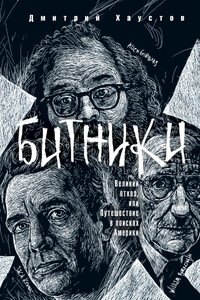
Историк философии Дмитрий Хаустов приглашает читателя на увлекательную экскурсию в мир литературы бит-поколения. Автор исследует характерные особенности и культурные предпосылки зарождения литературного движения, флагманом которого стала троица «Керуак – Гинзберг – Берроуз». В попытке осмысления этого великого американского мифа XX века автор задается вопросом о сущности так называемой американской мечты, обращаясь в своих поисках к мировоззренческим установкам Просвещения. Для того чтобы выяснить, что из себя представляет бит-поколение как таковое, автор предпринимает обширный экскурс в область истории, философии, социологии и искусствоведения, сочетая глубокую эрудицию с выразительным стилем письма.

В данной книге историк философии, литератор и популярный лектор Дмитрий Хаустов вводит читателя в интересный и запутанный мир философии постмодерна, где обитают такие яркие и оригинальные фигуры, как Жан Бодрийяр, Жак Деррида, Жиль Делез и другие. Обладая талантом говорить просто о сложном, автор помогает сориентироваться в актуальном пространстве постсовременной мысли.
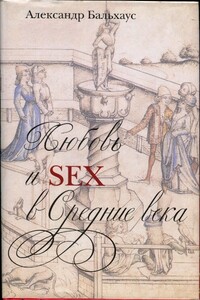
Средневековье — эпоха контрастов, противоречий и больших перемен. Но что думали и как чувствовали люди, жившие в те времена? Чем были для них любовь, нежность, сексуальность? Неужели наше отношение к интимной стороне жизни так уж отличается от средневекового? Книга «Любовь и секс в Средние века» дает нам возможность отправиться в путешествие по этому историческому периоду, полному поразительных крайностей. Картина, нарисованная немецким историком Александром Бальхаусом, позволяет взглянуть на личную жизнь европейцев 500-1500 гг.

В каждой эпохе среди правителей и простых людей всегда попадались провокаторы и подлецы – те, кто нарушал правила и показывал людям дурной пример. И, по мнению автора, именно их поведение дает ключ к пониманию того, как функционирует наше общество. Эта книга – блестящее и увлекательное исследование мира эпохи Тюдоров и Стюартов, в котором вы найдете ответы на самые неожиданные вопросы: Как подобрать идеальное оскорбление, чтобы создать проблемы себе и окружающим? Почему цитирование Шекспира может оказаться не только неуместным, но и совершенно неприемлемым? Как оттолкнуть от себя человека, просто показав ему изнанку своей шляпы? Какие способы издевательств над проповедником, солдатом или просто соседом окажутся самыми лучшими? Окунитесь в дерзкий мир Елизаветинской Англии!

Вниманию читателей предлагается первое в своём роде фундаментальное исследование культуры народных дуэлей. Опираясь на богатейший фактологический материал, автор рассматривает традиции поединков на ножах в странах Европы и Америки, окружавшие эти дуэли ритуалы и кодексы чести. Читатель узнает, какое отношение к дуэлям на ножах имеют танго, фламенко и музыка фаду, как финский нож — легендарная «финка» попал в Россию, а также кто и когда создал ему леденящую душу репутацию, как получил свои шрамы Аль Капоне, почему дело Джека Потрошителя вызвало такой резонанс и многое, многое другое.

Книга посвящена исследованию семейных проблем современной Японии. Большое внимание уделяется общей характеристике перемен в семейном быту японцев. Подробно анализируются практика помолвок, условия вступления в брак, а также взаимоотношения мужей и жен в японских семьях. Существенное место в книге занимают проблемы, связанные с воспитанием и образованием детей и духовным разрывом между родителями и детьми, который все более заметно ощущается в современной Японии. Рассматриваются тенденции во взаимоотношениях японцев с престарелыми родителями, с родственниками и соседями.

В монографии изучается культура как смыслополагание человека. Выделяются основные категории — самоосновы этого смыслополагания, которые позволяют увидеть своеобразный и неповторимый мир русского средневекового человека. Книга рассчитана на историков-профессионалов, студентов старших курсов гуманитарных факультетов институтов и университетов, а также на учителей средних специальных заведений и всех, кто специально интересуется культурным прошлым нашей Родины.
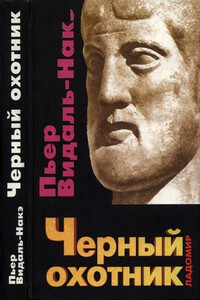
Пьер Видаль-Накэ (род. в 1930 г.) - один из самых крупных французских историков, автор свыше двадцати книг по античной и современной истории. Он стал одним из первых, кто ввел структурный анализ в изучение древнегреческой истории и наглядно показал, что категории воображаемого иногда более весомы, чем иллюзии реальности. `Объект моего исследования, - пишет он, - не миф сам по себе, как часто думают, а миф, находящийся на стыке мышления и общества и, таким образом, помогающий историку их понять и проанализировать`. В качестве центрального объекта исследований историк выбрал проблему перехода во взрослую военную службу афинских и спартанских юношей.