Буковски. Меньше, чем ничто - [69]
Буковски приходится изворачиваться, непрестанно изобретать ходы и выходы. Скажем, ему нужно превзойти современный ему авангард в увлечении крайностями, в страсти к скандальным мотивам. Если большим событием времени считался запрет «порнографических» текстов Миллера, то Буковски должен попытаться быть еще порнографичнее (а специально для порнографических изданий ради заработка писали оба автора), еще грязнее – отсюда сюжеты вроде педофилии, некрофилии и прочего. И в то же время ему нужно демонстративно отвергать другие многообразные клише авангарда, ставшие в его время слишком назойливыми, – отсюда его гомофобия (очевидный укол в адрес Гинзберга), его отвращение к всяческим социальным реформаторам и политическим, чаще всего левым, активистам, его издевательские симпатии к Гитлеру, подчеркнутый антиинтеллектуализм, дистанция по отношению к авангардному истеблишменту. Разыгрывая эту контравангардную карту, Буковски отказывается от экспериментов со стилем и берет курс на совершенно разговорную, «белую» литературу (включение в художественный текст элементов разговорной речи – не новость среди тех же авангардистов, однако Буковски последовательнее, он идет дальше и превращает весь текст в большой разговорный фрагмент, тем самым бросая упрек авангардистам в том, что простой язык для них – лишь форма художественной игры, тогда как он, Чарльз Буковски, действительно в нем живет).
Быть больше и одновременно меньше, чем авангард, – такова непростая двойная стратегия нашего автора. Маневрируя между Сциллой конформизма и Харибдой авангарда, он становится хитрецом, мастером литературного выживания (тогда как его повседневная жизнь уже сделала его мастером выживания социального и биологического). Его художественный опыт так просто не редуцируется к банальной схематике бинарных оппозиций: ночь/день, плохое/хорошее, традиционное/новаторское. Всякий раз ему приходится ускользать и от того, и от другого. Тексты его – это танец над пропастью, где каждый шаг может стать последним, ибо всегда остается риск стать либо слишком традиционным, отказываясь от новаторства, либо слишком авангардным, копируя сонмы живущих и умерших проклятых поэтов.
Буковски тем самым – образцовый постмодернистский, постпросвещенческий, постромантический, поставангардный, в общем, поставтор, потому что его ключевая проблема есть не преодоление традиции, но преодоление преодоления. Это ситуация нескончаемой художественной ловушки, которая делает каждый шаг автора спасительным и роковым одновременно: слишком радикальным, чтобы вписаться в традицию, но слишком традиционным по меркам нескончаемого авангардистского преодоления. В этом смысле Буковски – человек своего времени, если учесть, что быть человеком его, то есть поствремени означает находиться вне времени любой ценой. Он, таким образом, человек противоречия и парадокса, и неслучайно, что именно противоречие и парадокс – главные формальные, стилистические фигуры его произведений.
Во времена кризиса и нескончаемого завершения Нового времени бунтарь-авангардист, подобно архетипическому Стивену Дедалу, должен (подчеркиваю этот момент принуждения) противопоставлять господской культуре свой синтез изгнанничества, молчания и хитроумия – синтез, иначе называемый произведением. Все элементы здесь подчеркнуто парадоксальны: будучи изгнанным из культуры, авангардист всё же должен творить культурный продукт; обреченный на молчание, он таки говорит посредством произведения; его хитроумие, наконец, оборачивается техникой выживания, модусом существования между Сциллой и Харибдой, необходимостью быть Стивеном Дедалом и Леопольдом Блумом в одном лице. Бунтарь-авангардист – это бог Янус, глядящий сразу в две противоположных стороны, это делёзианско-гваттарианский шизо с мультиплицированной идентичностью, это ходячий парадокс: черное и белое, день и ночь, маргинал и конформист в одном теле (конечно, без органов).
В той критике постмодерна, примером которой может служить теория Юргена Хабермаса, усматривающего в постмодерне незавершенный проект самого модерна, его – модерна – имманентную раздвоенность, шизофреническую расщепленность на норму и сразу ее нарушение, на гегелевские тезис и антитезис, – в этой критике есть, таким образом, изрядная доля истины: она обнажает незавершенный проект модерна как один большой парадокс. Некоторым представителям Франкфуртской школы, что делает ее критику по-прежнему актуальной, вообще удавалась очень результативная работа интуиции. Поэтому и теперь можно лишь подивиться той прозорливости, которая позволила Хоркхаймеру и Адорно, находящимся, к слову, в своем собственном американском изгнании, символизировать внутренний порок двойственности, свойственной Новому времени (то есть модерну) и его наиболее рационалистическому ядру – Просвещению, – фигурой гомеровского Одиссея.

В данной книге историк философии, литератор и популярный лектор Дмитрий Хаустов вводит читателя в интересный и запутанный мир философии постмодерна, где обитают такие яркие и оригинальные фигуры, как Жан Бодрийяр, Жак Деррида, Жиль Делез и другие. Обладая талантом говорить просто о сложном, автор помогает сориентироваться в актуальном пространстве постсовременной мысли.
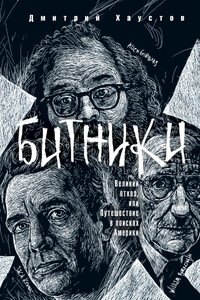
Историк философии Дмитрий Хаустов приглашает читателя на увлекательную экскурсию в мир литературы бит-поколения. Автор исследует характерные особенности и культурные предпосылки зарождения литературного движения, флагманом которого стала троица «Керуак – Гинзберг – Берроуз». В попытке осмысления этого великого американского мифа XX века автор задается вопросом о сущности так называемой американской мечты, обращаясь в своих поисках к мировоззренческим установкам Просвещения. Для того чтобы выяснить, что из себя представляет бит-поколение как таковое, автор предпринимает обширный экскурс в область истории, философии, социологии и искусствоведения, сочетая глубокую эрудицию с выразительным стилем письма.

Современный Афганистан – это страна-антилидер по вопросам безопасности, образования и экономического развития. Его печальное настоящее резко контрастирует с блистательным прошлым, когда Афганистан являлся одним из ключевых отрезков Великого шелкового пути и «солнечным сплетением Евразии». Но почему эта древняя страна до сих пор не исчезает из новостных сводок? Что на протяжении веков притягивало к ней завоевателей? По какой причине Афганистан называют «кладбищем империй» и правда ли, что никто никогда не смог его покорить? Каковы перспективы развития Афганистана и почему он так важен для современного мира? Да и вообще – что такое Афганистан? Ответы на эти и многие другие вопросы – в настоящей книге. В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.
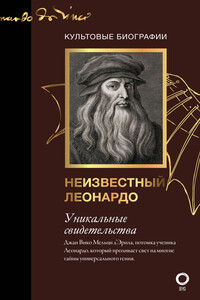
В своей книге прямой потомок Франческо Мельци, самого близкого друга и ученика Леонардо да Винчи — Джан Вико Мельци д’Эрил реконструирует биографию Леонардо, прослеживает жизнь картин и рукописей, которые предок автора Франческо Мельци получил по наследству. Гений живописи и науки показан в повседневной жизни и в периоды вдохновения и создания его великих творений. Книга проливает свет на многие тайны, знакомит с малоизвестными подробностями — и читается как детектив, основанный на реальных событиях. В формате PDF A4 сохранён издательский дизайн.

В настоящей монографии представлен ряд очерков, связанных общей идеей культурной диффузии ранних форм земледелия и животноводства, социальной организации и идеологии. Книга основана на обширных этнографических, археологических, фольклорных и лингвистических материалах. Используются также данные молекулярной генетики и палеоантропологии. Теоретическая позиция автора и способы его рассуждений весьма оригинальны, а изложение отличается живостью, прямотой и доходчивостью. Книга будет интересна как специалистам – антропологам, этнологам, историкам, фольклористам и лингвистам, так и широкому кругу читателей, интересующихся древнейшим прошлым человечества и культурой бесписьменных, безгосударственных обществ.

Книга посвящена особому периоду в жизни русского театра (1880–1890-е), названному золотым веком императорских театров. Именно в это время их директором был назначен И. А. Всеволожской, ставший инициатором грандиозных преобразований. В издании впервые публикуются воспоминания В. П. Погожева, помощника Всеволожского в должности управляющего театральной конторой в Петербурге. Погожев описывает театральную жизнь с разных сторон, но особое внимание в воспоминаниях уделено многим значимым персонажам конца XIX века. Начав с министра двора графа Воронцова-Дашкова и перебрав все персонажи, расположившиеся на иерархической лестнице русского императорского театра, Погожев рисует картину сложных взаимоотношений власти и искусства, остро напоминающую о сегодняшнем дне.
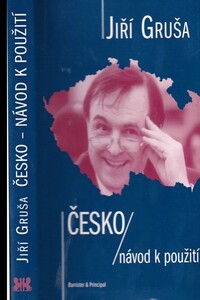
Это книга о чешской истории (особенно недавней), о чешских мифах и легендах, о темных страницах прошлого страны, о чешских комплексах и событиях, о которых сегодня говорят там довольно неохотно. А кроме того, это книга замечательного человека, обладающего огромным знанием, написана с с типично чешским чувством юмора. Одновременно можно ездить по Чехии, держа ее на коленях, потому что книга соответствует почти всем требования типичного гида. Многие факты для нашего читателя (русскоязычного), думаю малоизвестны и весьма интересны.

Книга Евгения Мороза посвящена исследованию секса и эротики в повседневной жизни людей Древней Руси. Автор рассматривает обширный и разнообразный материал: епитимийники, берестяные грамоты, граффити, фольклорные и литературные тексты, записки иностранцев о России. Предложена новая интерпретация ряда фольклорных и литературных произведений.