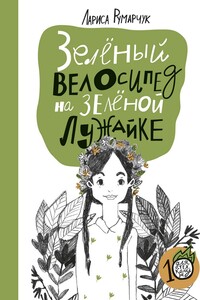— Чего это ты вдруг?
— Ну, я хочу сказать, после того, как папа с мамой развелся, он считается и моим отцом или только Грантика?
— Ну конечно, он вам обоим отец. То, что тебя судом отдали маме, а Грантика — папе, ничего не меняет.
— Но Грантика он все-таки любит больше?
— И тебя любит.
— Нет, теперь он меня не любит, — вздохнул я. — Если бы он меня любил, он и мне прислал бы что-нибудь…
— А что? Он прислал посылку?
— Да. И в ней Грантику прислал рубашку, носки и танк.
— Ах во-от оно что, — глядя в огонь, задумчиво протянула Мец-майрик. Потом вдруг, быстро глянув на меня: — А ты знаешь, наверное, у него не хватило денег купить что-нибудь и тебе. Да, да, конечно, не хватило. В следующий раз он и тебе купит. — Потом, поднявшись с места, оживленно: — Вай, совсем запамятовала! Тетушка Сопан угостила меня конфетами, а я принесла их для тебя да и забыла про них. Они там, в шкафу, сейчас принесу, Геворг-джан.
Дядя Ваня, или, по-нашему, дядя Ванес
В то последнее лето войны 1944 года не успели мы с Грантиком приехать на летние каникулы к нашим бабушкам, как сельские мальчишки сообщили нам, что в нескольких километрах от села солдаты строят узкоколейную железную дорогу.
В начале августа по узкоколейке прибыл первый состав, а с ним вместе и воинские части.
Военные устроились на новом месте быстро. К концу дня на пустыре возник палаточный городок, а вечером даже задымила походная кухня — огромный котел на колесах.
Спустя два дня я, мой брат Грантик, лопоухий Тутуш и еще двое мальчишек побежали к военному лагерю. Не решаясь подойти близко, мы присели на небольшой пригорок, что был в десяти или пятнадцати шагах от крайней палатки.
Поглазев некоторое время на лагерную жизнь, мы уже собрались было уходить, как вдруг из самой крайней палатки вышел коренастый, плотный солдат в гимнастерке с расстегнутым воротом. Он был старый, лет сорока, а может, и больше. Лицо его заросло светлой щетиной так, что пушистые выгоревшие на солнце усы поначалу не очень бросались в глаза. А вообще-то, вид у него был вовсе не воинственный, даже, наоборот, какой-то уж очень мирный и добродушный. Может, потому, что он был без пилотки, а в руках держал широкий кожаный ремень.
— Эй, мальцы! Говорит кто-нибудь из вас по-русски? — крикнул он, увидев нас.
Мальчишки выжидающе уставились на меня и Грантика.
Я вскочил на ноги и крикнул:
— Я говорю!
— Хочешь помочь солдату Советской Армии?
— Ага, хочу.
— Солдату, который храбро сражался с фашистами на фронте?
— Хочу.
— Солдату, который, получив два тяжелых ранения, долго пролежал в госпитале?
— Хочу, — с готовностью ответил я. — А что надо делать, дяденька, а?
— Не дяденька, а старшина Парамонов!
— Хочу помочь вам, старшина Парамонов! — почти выкрикнул я, вытянув, как солдат, руки по швам.
— Вот это уже порядок. Поди-ка сюда и пособи… — сказал он, вдруг добродушно улыбнувшись.
Я подбежал. Старшина протянул мне один конец ремня и сказал:
— Держи. Только крепко и тяни к себе.
Только и всего! Я был разочарован, но взялся за протянутый конец ремня. А старшина не спеша вытащил из-за голенища сапога бритву, раскрыл и стал водить ею по гладкой, отполированной поверхности изнаночной стороны ремня, крепко держа левой рукой второй конец.
— Ну, а как тебя зовут?
— Геворг.
— Где это ты так научился говорить по-русски?
— В школе. Я учусь в русской школе, — ответил я и посмотрел на Грантика и остальных мальчишек, которые, осмелев, тоже подошли и теперь стояли рядом, во все глаза глядя на старшину.
Чш-чш-чш — водил старшина бритвой по натянутому ремню. Время от времени он срезал лезвием бритвы светлые волоски у себя на тыльной стороне ладони: пробовал, хорошо ли точится. И потом снова: чш-чш-чш.
— Стало быть, ты живешь в городе? — спросил он.
— Ага. Мы с братом живем в городе и учимся в русской школе.
— Который же из них твой брат?
— Вот он, — показал я на Грантика.
— А тебя как зовут?
— Грантик… — ответил брат, робея.
— В какой же класс перешел?
— В третий.
— Ну вот, кажись, наточил, — сказал старшина, легонько дотронувшись до лезвия большим пальцем. — Теперь будем бриться, а то видишь, как зарос… — И правой рукой он провел по заросшей щеке.
Потом вошел в палатку, вынес прямоугольное зеркальце и приладил его к ветке молоденькой акации. Он сел на стоявший тут же под деревцом ящик, мелкой стружкой накрошил в алюминиевую мисочку с водой коричневого мыла, затем стал самодельной кисточкой взбивать мыльную пену. Пена почему-то не взбивалась.
— Помазок-то совсем прохудился, все волосы из него повылезли, — сказал старшина.
Я посмотрел: ну и помазок! Жалкий пучок жесткой щетины, прикрепленной суровыми нитками к палочке.
— Сам сделал. Из конского волоса. Еще на фронте.
— Из конского волоса? — удивился я. — Откуда же взяли на фронте конский волос?
— А ты думаешь, на фронте не используют конскую тягу? Например, орудия нашей противотанковой батареи тащили лошади. Да и рацию и все остальное снаряжение… Так вот, бывало, нужны ребятам помазки, так и подрежу обозным лошадям хвосты да и понаделаю кисточек, чтобы они могли бриться, когда выпадал свободный час. А подрезал я хвосты лошадям ровненько-ровненько, только концы, чтобы животину-то не уродовать.