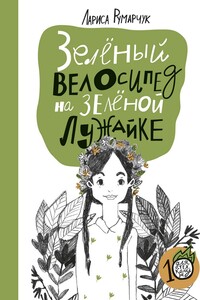— Он сказал: нравится, только перцу много, — перевел я. — И еще — что у него желудок луженый.
— Скажи ему: когда перцу много, тогда незаметно, что всего остального мало, — смеясь, сказала Мец-майрик. — Война ведь теперь.
Несколько минут Мец-майрик, я и Грантик молча смотрели, как он ест.
— Геворг, спроси Ванеса — его ведь так зовут? — сколько времени он воевал на фронте?
— Бабушка спрашивает: вы давно воюете?
— Почти три года, с самого начала войны, — ответил старшина, отправляя в рот полную ложку каши.
— Геворг, спроси: и его ни разу не ранило?
— Бабушка спрашивает: неужели вас ни разу не ранило?
— Я же тебе рассказывал: у меня были тяжелые ранения, в ноги, разве не помнишь? — ответил старшина.
Я кивнул и перевел.
— Вай! — всплеснула руками Мец-майрик. — Теперь ноги не болят, спроси его, Геворг, спроси: а теперь ноги не побаливают?
Я спросил.
— В непогоду только малость побаливают, — сказал старшина и отодвинул пустую миску. — Спасибо, вкусная была каша.
— Он говорит, что только в плохую погоду болят, — сказал я, забыв перевести то, что наш гость сказал про кашу.
Но Мец-майрик, заметив опустевшую миску, схватила ее и кинулась к огромному медному казану, стоявшему на плите.
— Скажи бабушке, что я уже сыт! — крикнул старшина. — Больше не хочу, премного благодарен. — И он опять прижал обе ладони к груди.
— Мец-майрик, дядя Ванес говорит, что он уже наелся.
Мец-майрик с половником в одной руке и с миской в другой остановилась в нерешительности возле плиты, глядя на старшину.
Тогда дядя Ванес, улыбаясь, похлопал себя по животу и сказал:
— Я уже сыт, мамаша, больше не хочу.
Мец-майрик снова вернулась к столу, села на свое место.
— Геворг-джан! Спроси, сынок: он часом не встречал там на фронте твоего дядю? Он ведь тоже воюет с первого дня войны.
Я перевел.
— А что, от него нет писем? — спросил старшина, как-то внимательно посмотрев на бабушку.
— Мец-майрик, старшина спрашивает: от дяди нет писем?
— Геворг-джан, ты же знаешь, что от него уже полгода нет писем. Вай, ослепнуть бы мне, неужели моего мальчика ранили и он в госпитале?! — всплеснув руками, горестно воскликнула Мец-майрик.
— Бабушка говорит, что от дяди уже полгода нет писем и что пусть она ослепнет лучше, если его ранили и если он в госпитале, — добросовестно перевел я.
— А какой он из себя? — спросил старшина.
Я перевел.
— Весь такой черненький, высокий, — сказала Мец-майрик, не отрывая глаз от лица старшины.
Я перевел.
— И широкоплечий? — спросил старшина.
— Да, сынок, широкоплечий, — радостно закивала бабушка, когда я перевел ей его слова. Она все так же неотрывно глядела на старшину. — А уж сильный какой, ну прямо как лев.
Я перевел.
— Глаза черные, большие? — продолжал расспрашивать старшина.
— Да, сынок, да, — все больше и больше радуясь, кивала Мец-майрик.
— И волосы вьются? — спросил старшина.
Мец-майрик нетерпеливо несколько раз кивнула: мол, да, да, да…
— А как же, конечно, встречал! — широко улыбаясь, воскликнул старшина. — Так ведь он был командиром нашей батареи! А уж так воевал, так воевал — и впрямь был храбрый, как лев.
Я, пораженный словами старшины, молча уставился на него.
— Ну, чего ты, Геворг, смотришь на меня? — спросил старшина. — Переведи бабушке своей то, что я сказал.
— Так ведь… дядя Ванес, командира вашего звали Рубеном, — отведя взгляд от лица старшины, проговорил я. — А моего дядю — Суреном… И ему не девятнадцать, а уже двадцать пять…
Мец-майрик тревожно переводила глаза с моего лица на лицо старшины.
— Нет, нет, я теперь припоминаю. Его звали Суреном, — прервал меня старшина. А потом уже тише: — Ну как ты не понимаешь, малец, а?..
— Геворг, о чем вы там говорите? — нетерпеливо сказала бабушка. — Так встречал Ванес твоего дядю?
А у самой глаза такие, такие… Я не выдержал и выпалил одним духом:
— Да, Мец-майрик, дядя Ванес встречал его на фронте, нашего дядю. Он был командиром и воевал храбро, как лев!
— Я так и знала, что он будет храбро воевать. — И у нее лицо просветлело, успокоилось. Тревоги как не бывало в глазах.
— И еще скажи бабушке, что победа над фашистами не за горами. Наши теперь уже освобождают соседние страны, а потом двинутся на Берлин. Некогда писать сейчас домой. Вот так и скажи, дружок, — закончил старшина и потрепал меня за волосы.
Я перевел бабушке его слова.
После этих слов лицо Мец-майрик стало совсем веселым.
— Спроси Ванеса, — сказала она, — может, он еще хочет каши, а? Пусть не стесняется, на дне казана еще есть.
— Бабушка говорит: ешьте еще, она наскребет.
Старшина рассмеялся и сказал:
— Ей-богу, больше не хочу. Наелся во-от так. — Он провел правой рукой себе по горлу.
Я перевел бабушке все, кроме слов «ей-богу». Я просто не знал, как их перевести, да мне думается, это и неважно было. Главное — передать суть. Хотел я от себя сказать старшине, что любимое занятие нашей бабушки — это кормить всякого, кто попадет к ней в руки. Но потом передумал: к чему распространяться о слабостях своих близких?
Но тут старшина встал, сказав, что уже поздно и ему надо идти. Прощаясь, он низко-низко поклонился бабушке, еще раз сказал «спасибо» и вышел.