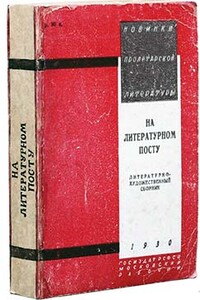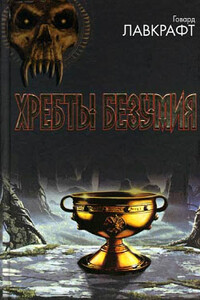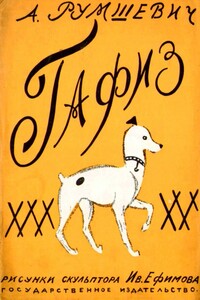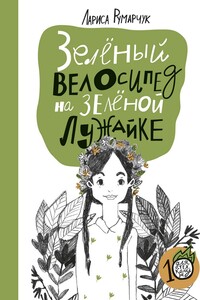Шелестели листы газет и журналов, но глаза как-то рассеянно бегали по строчкам. Глаза видели уже другое. Большое здание казармы… а там — ничего не могли разглядеть глаза… Здание было загадочным, как та жизнь, которая предстоит в нем.
Комната призывной комиссии была полна. Группами стояли перед плакатами с изображением винтовки в разрезе, обсуждали отдельные пункты приказа о призыве.
Окруженный призывниками, стоял политрук. На него сыпались вопросы: «А как комсомольская работа?» — «А куда ушлют нас отсюда?» — «А нельзя ли во флот?»
И тот, кто спрашивал о флоте, парнишка в клетчатой кепке, долго еще пытался указывать политруку, что именно его нужно послать на море, что он давно мечтает об этом, и что ему даже ячейка наказала: не иначе, как во флот.
Кроме политрука, ответы давал грузный парень в военной шинели и кепке неопределенного цвета. Он важно ходил мимо стола с газетами, покровительственно похлопывал по плечу призывников и авторитетно давал разъяснения по всевозможным вопросам. Призывники парня в шинели считали главным командиром.
Но когда распахнулась дверь и стремительно поднялись с мест призывники, чтобы в одну линию протянуться к столу, «главный командир» скромно занял место в общем череду, как и другие. Это и был наш чудак Капернаут, с которым потом делили мы много дней и нашей учебы и походов.
Осмотр, — внимательный, детальный осмотр. Входят в одну дверь металлистами, текстильщиками, монтерами, конторщиками, выходят — артиллеристами, матросами, пехотинцами… А куда, в какую часть — еще нет указаний… Об этом еще потом, через месяц, в повестке…
За час ожидания познакомились, сроднились и мечтают о том, как бы хорошо попасть всем в одну часть.
Среди уходящих выделяется объемистая фигура в кепке, опять оживленно рассуждающая о сроках отправки. Капернаут — на своем посту.
…Месяц пролетел быстро.
На ячейке жаркую речь говорил Мишка, секретарь, и каждому призывнику от ячейки поднес карандаш и записную книжку. Прощались с ячейкой для новой работы в рядах бойцов.
Двенадцать было призывников. И по разным концам Советской земли могли разъехаться они, члены одной ячейки. И из разных концов обещали они слать письма — весточки в родную ячейку.
А потом был вечер, как все вечера. Так же плясал Федька Чернов, так же мрачно острил Борька — эк прав и так же старательно и фальшиво играл струнный оркестр. Из оркестра тоже уходили двое.
На утро двенадцать бойцов явились на пересыльный пункт. На утро двенадцать членов комсомольской ячейки вступили в ряды Красной армии.
Началась военная жизнь.
Еще на пересыльном пункте пугало всех непонятное и загадочное слово «карантин». «Старые служаки» рисовали этот карантин в самых черных красках. В их рассказах вставало перед глазами что-то среднее между тюрьмой и камерой для пыток. Но заведующий ленинским уголком Кузьмин разбил все наши страхи.
— Нет ничего страшного. В баньку сходите, укольчики примете, передохнете малость. И конец карантину. Айда в роты!..
Решили вопроса больше не обсуждать.
Жизнь покажет. Только Капернаут, собрав «терпеливых» ребят, читал им лекцию о том, для чего делаются «укольчики».
Маленький, приземистый помощник командира взвода был первым начальством, с которым суждено нам было познакомиться. О, мы тогда не знали еще значения трех треугольников на петлицах[1], и в нашем представлении помкомвзвода Утин был весьма крупным начальством.
— Начальник карантина, — авторитетно объявлял Капернаут. Но вид у «начальника карантина» был не особенно солидный. «Мужичок с ноготок» — прозвали его некоторые ребята. Так это прозвище и укоренилось за ним в дальнейшем. На прозвища была сильна наша рота.
Первый раз (не считая допризывки, но там что, — там не то было!), первый раз настоящим военным строем зашагали мы в казармы. Москва еще спала.
И некому было смотреть, как молодцевато шагали будущие бойцы, некому было слушать наши боевые песни. Только мать одного призывника-москвича все время быстрыми шажками семенила за строем. Старушка всхлипывала, утирала глаза концом теплого платка и жалобно смотрела на нас. А сын ее, будущий наш стенгазетчик, Миронов, шагал, плотно сжав губы, и страшно краснел за свою «несознательную» мать.
Важно выступал наш помкомвзвода, важно болтался на боку помкомвзводовском наган с ремнями и кистями. И с нескрываемым уважением смотрели мы на этот знак командирской власти.
На перекрестке близ Серпуховки продавщица папирос, увидав нас, быстро отобрала несколько пачек папирос и торопливо, молча, начала всовывать в руки призывников. Мы не знали — полагается ли это в строю, или нет. Но помкомвзвода молчал, и мы не хотели обижать добрую женщину.
Город уже просыпался. Сбоку нас бегали мальчишки, кричали: «Новобранцев гонють!», подпевали нашей песне и яростно командовали.
Вот они, те самые стены, то самое здание, где два года будем мы вместе делить наши радости и наши печали!
На дворе нас встречало командование полка. Играл оркестр. Говорил речь бравый командир с двумя орденами Красного знамени, как мы потом узнали, командир полка, и отвечал командиру полка вышедший из строя маленький коренастый парень в кожанке и кубанке, Ваня Фуражкин, будущий наш секретарь ячейки и главный общественник. Говорили недолго. Опять играл оркестр. Стараясь перед лицом командования показать свою выправку и не сбиться с ноги, мы отправились в «загадочный карантин».