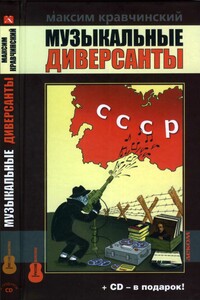В годы Советской власти, когда легендарными, по строгой разнарядке вождей, были одни полководцы, в легенду прокрался, минуя партийные таможни, поэт Григорий Поженян. Он зашел туда на руках, вниз головой, как в кабинет ректора литинститута, когда тот накануне исключив его из заведения, готовящего советских писателей, крикнул:
— Пошел вон, и чтоб ноги твоей больше у меня не было!
Сейчас имя этого бывшего начальника вспоминают только в связи с тем, что Поженян однажды вошел на руках в его кабинет.
Что же накануне так разозлило ректора? Почему он вручил волчий билет студенту, молодую грудь которого распирали боевые ордена, а в общежитской тумбочке хранился пистолет, подаренный за геройство командующим фронта?
Грустная это история. Не хотелось бы с нее начинать рассказ о веселом человеке, но придется. Потому что легенда берет начало где-то там.
Победившая страна, насладившись маршами победы, снова стала выискивать внутренних врагов, без которых существовать уже не могла. Позади были чистки и зачистки, троцкисты и зиновьевцы. Освободились нары в лагерях после массовых отправлений на тот свет политических зэков. Нужен был новый послевоенный призыв, и прокатилась по широким просторам родины волна осуждения космополитов. Каждая серьезная организация должна была иметь своих «отщепенцев». После долгих закрытых диспутов партийцев в литературном институте тайным голосованием на скрытом от общественности бюро выбрали своего «предателя». Им оказался замечательный советский поэт Павел Антокольский.
А что? Чужой по крови, по возрасту и по таланту. Подходит. Не жалко.
Накануне всеобщего собрания Поженяна вызвали в партком.
— Мы вам доверяем, Григорий Михайлович. Вы, хотя и не коммунист, но наш человек — воевали хорошо. Человек отчаянный и поэт неплохой. Впрочем, от вашего поведения зависит, каким будете в будущем. Да, кстати, нас всех возмутил этот Антокольский. Предал родину, Иуда, которую мы с вами недавно защитили на фронте. В общем, Григорий Михайлович, нужно выступить и со всей красноармейской прямотой…
— Выступлю! — пообещал Гриша Поженян и выпятил вперед грудь, как будто был в кителе.
На трибуну он вышел в этом самом кителе, который потом назовет «дурацким пиджаком», и будет надевать его только тогда, когда нужно будет идти к высокому начальству, заступаясь за друзей, попавших в немилость.
Медали и ордена осветили притихшие ряды напряженного зала. До этого выступал Солоухин, простоявший всю войну с винтовкой у мавзолея, чтобы враги не похитили Ленина. Он стоял там даже тогда, когда тело вождя временно отбыло в Тюмень.
Окая, он вбил свои четыре гвоздя, как напишет потом один поэт, в ладони и ступни своего распятого учителя.
И вот на трибуне шаровая молния — Гриша Поженян, еще не легенда, еще пацан, балагур, буян, весело провоевавший четыре года, игравший в кости со смертью и выигравший у нее, да так, что и сейчас еще не может угомониться.
— Меня вчера попросили, вернее, приказали, — сказал Гриша, — затоптать поэта, с книжкой которого я шел в бой. Если бы меня убили, был бы прострелен и этот томик, потому что хранился он в кармане на груди. Сын этого поэта погиб на фронте. Он не может защитить отца. От его имени это сделаю я. Мне не страшно. Меня уже убивали и я живу после смерти. Я не прятался за мавзолеем, когда мои ровесники шли в атаку. И сейчас тоже не спрячусь.
Вы хотите, чтобы я затоптал замечательного писателя, нашего прекрасного учителя поэзии? — обратился Поженян к притихшему президиуму и испуганному залу. — Внимательно следите за движением руки.
И Гриша сделал руками неприличный жест. Любого другого в те смутные времена за такую дерзость запрятали далеко в Сибирь. Гриша и на этот раз отделался легким ранением. Его только исключили из Литинститута.
Он на руках поднялся на первую ступеньку легенды. Впрочем, на вторую. На первой он уже давно стоял в городе, который сделался для него родным, в Одессе. Это случилось в сорок первом. Немцы взяли деревню Беляевку. Оттуда шла в город днестровская вода. В городе у нескольких колонок, к которым были подключены запасники, стояли тысячи одесситов с ведрами. Говорят, что однажды, когда пошел дождь, народ высыпал на улицы из бомбоубежищ, чтобы подставить выварки и кастрюли под водостоки. Люди ловили летящие капли губами и ладонями, стояли, подняв к небу лица, и не расходились, хотя город в это время бомбили немцы.
Молочницы из Дофиновки везли в бидонах колодезную воду в больницы, переполненные ранеными, солдатам не покидающим окопы. Осажденный город мучила жажда. Через много лет Гриша снимет фильм «Жажда», а сейчас он с двадцатью разведчиками ночью прокрался к водонапорной станции и уничтожил вражескую охрану.
Беляевка, наверное, была первым селом в Отечественной, которое, хотя и на время, на несколько дней, но отобрали у немцев. Однако за эти несколько дней Одесса вдоволь напилась, наполнила все свои ведра, выварки и кастрюли эликсиром жизни, помылась в банях — и Исаковича, и на Гаванной, и на Провянской, напоила и накормила своих защитников, даже не догадываясь, что все это позволили сделать ей несколько десятков разведчиков, которыми командовал семнадцатилетний Гриша Поженян, известный тогда под кличкой Уголек.