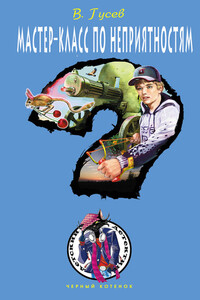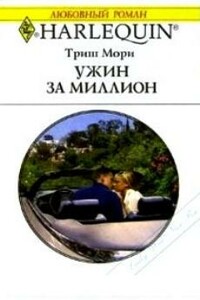***
Шесть утра. В звенящем Пекине рассвет
нарезает на ломтики солнечный мармелад.
Знаю, Мэй, ты сидишь у окна, закутавшись в плед,
устремив в пустоту печалью подернутый взгляд.
Твои руки сжимают пушистую, мягкую ткань,
чай с жасмином, в щербатой чашке, давно остыл.
Раскрывает бутоны малиновая герань,
за окном просыпается шумный весенний мир.
Ты впускаешь бабочек, бьющихся о стекло,
свежий ветер разносит по комнате аромат
белых яблонь, баюкающее тепло
обнимает тебя, увлекая назад в кровать.
Твой уютный мирок лелеем твоим отцом,
доброй матерью. В их любви,
вспоминай обо мне лишь хорошее.
Страшным сном забывая всю боль, что тебе причинил.
Я желаю тебя, как и прежде — до дрожи рук,
до щемящего чувства, ноющего в груди.
Я кричу по ночам. Этот жуткий звук
отлетает от стен, заглохнув на полпути.
Иногда в мою голову забираются голоса,
языками шершавыми лижут мой слабый мозг.
Я сжимаю ладони и закрываю глаза,
вспоминаю тебя,
белых бабочек,
запах роз.
Очень жаль, здесь нет окон. От этого тяжелей.
Берега Юндинхэ не видимы, не слышны.
Я глотаю таблетки.
Таблетки на вкус, как клей.
Я, конечно, не болен. Ведь это они больны.
Моя Мэй, ты была единственной, я не вру.
Не верь тем, кто расскажет тебе о других.
Ты была моей бабочкой.
Лучшей из двадцати двух.
Но тебя не причислить к ним, не равнять на них.
Я втыкал в них иголки, нежно вскрывая плоть.
Эти глупые женщины сгорали в моем огне.
Но ты, Мэй…
ты была совершенно другой.
Ты была моим маяком в непроглядной тьме.
Извини за то, что видела кровь на моих руках.
Твой испуганный взгляд,
вся лживость бульварных газет.
Как посмели они винить меня в этих грехах?
Это свято — рождать прекрасное.
Разве нет?
Как чудесно слова выстраиваются в мозгу,
веки, крыльями бабочки, вздрагивают слегка.
В голове оживают очертания твоих губ,
лето в парке Бэйхай, трепещущая рука.
Дьявол в белом халате под кожу мне вводит яд.
Пальцы мерзнут и стынут,
и мысли мои легки.
Мэй, прощай.
И знай, я безмерно рад,
что тебе удалось спастись от моей любви.
***
Я иду по Шёлковому пути, по дорогам провинции Ганьсу, под ногами золото и нефрит, азиатский ветер горяч и сух. По щекам тихонько скользит закат, Сечжи пожирают степной огонь. Я глотаю жесткий песок и чад, и из глаз текущую злую соль. У дневных драконов горящий глаз, по моим ладоням струится пот. Смерть всегда случается в первый раз, и от страха крутит узлом живот. Мне навстречу движется паланкин, его тащат смуглые мертвецы. Мертвый император династии Мин говорит, что я его блудный сын. Заползает в рот вонь истлевших тел, к горлу подбирается тошнота. Их глаза стеклянные, губы — мел, мир вокруг меня изможден и стар. Я шагаю тихо, ни жив, ни мертв, мои ноги вязнут в густых песках. Если кто столкнется, то скажет: ''Черт! Что за жуткий холод в таких местах?''. Проходите сквозь, разрезайте вдоль, и лакайте кровь из открытых ран. Я иду, измученный и босой, и небесный плавится океан.
Для чего мне чувствовать эту тьму? Для чего мне видеть весь этот свет? Я хотел сбежать от ужасных мук, (кто сказал бы мне, что нирваны нет). Пожалей меня, я сегодня тих, и осколок неба стучит в груди. Я иду по Шёлковому пути. И идти мне, сколько еще идти.
…в день, когда я стоял на том мосту и дракон Луны целовал мой рот, я глотал бурлящую пустоту и смотрел на гладкую кожу вод. Я желал спасения и любви, я хотел поведать планете боль. Дома, в чашке стыл белоснежный рис, и в камине медленно тлел огонь. И когда я сделал последний шаг, и когда я сделал последний вдох, надо мной парил желтый лунный шар, и из глотки шла алой рвотой кровь. Минус жизнь ненужного существа, но со мной навечно осталась грусть. Я застыл в воде и закрыл глаза, а открыв — увидел Шёлковый путь.
Отливает золотом чешуя, у Чжулуна коготь и остр, и крив.
Если бы хоть кто-то меня обнял,
то сегодня я все еще был бы жив.
Автор стихотворений — гениальный, бесконечно талантливый Джио Россо (с).
***
Экспозиция.
Пролог.
Снег скрипел, похрустывал под ногами в такт размашистому шагу, и на земле оставались ребристые отпечатки ботинок. Кончики пальцев, как и тело в целом, стали подмерзать. Оделась явно не по погоде — понадеялась на тепло кондиционера, накинув на плечи легкомысленное пальтишко да сунув ноги в тонкие осенние ботинки. Теперь же, когда протопленный салон машины остался позади, выяснилось, что пусть погода стояла и безветренная, но была уж больно морозная.
В воздухе кружились снежинки, и это было завораживающе красиво. К ночи, наверняка, снег повалит плотной завесой, укроет ели, засыплет норы, припорошит лапник.
Я вздохнула — не к месту проснулась лирика, не ко времени.
В носу щипало, щеки покалывало, но все же, не смотря на холод и явный не уют, хотелось поднять лицо к небесам и громко крикнуть какую-нибудь глупость. Чтобы вздрогнули неподвижные ели за спиной, вспорхнули с веток нахохлившиеся, приготовившиеся почивать, птицы, а с верхушки дерева вниз ухнул пласт снега. Крикнуть и завалиться в пушистый сугроб, размахивая руками и ногами, как стеклоочистителями — чтобы на земле остался след в виде ангелочка. Детская забава — глупая, ребячливая, — мысленно осадила себя, почти разозлившись. Наверное, оттого и не сделала ничего беззаботного. Запахнула пальто плотней, и вышла на освещенный фонарями двор. Прятаться в тени больше не было смысла.