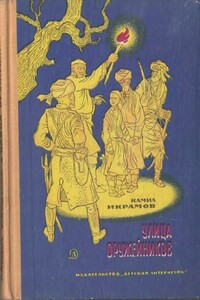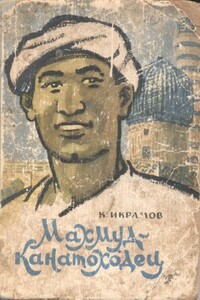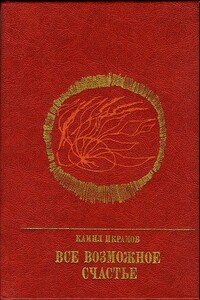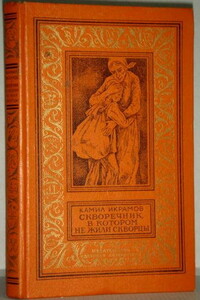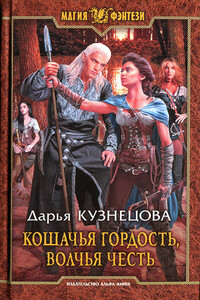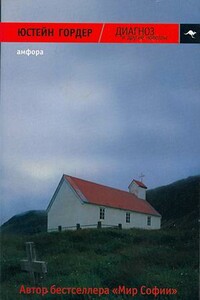Все знали, что так будет, что надежды нет. Говорили: «Такая молодая! А как с сыном теперь?»
И вот в полдень, в ясный и прохладный октябрьский полдень, вырвавшись из тесного дворика, взметнулся над плоскими глиняными крышами и повис между небом и землей пронзительный женский крик:
— О сестра, оставившая сироту! Пусть в райских садах найдет приют твоя душа!
Соседки, второпях набрасывая платки, шли к дому, где случилось несчастье.
Седая и сгорбленная старушка, бабушка Джамиля, распоряжалась похоронами. Она была самой уважаемой женщиной на улице Оружейников, и здесь ее слушались все. Одного она посылала за муллой, чтобы читать коран, другого — в лавку за бязью для савана, третьего — за общественными носилками.
Такие носилки — одни на всю улицу. Они хранятся у квартального старосты. На них уже унесли из квартала, может быть, сто, а может быть, и тысячу человек.
Все чем-нибудь заняты на похоронах. Кто занят, тому легче. Один Талиб молча стоит на коленях возле матери, не зная, что ему делать.
Первый раз в жизни ему очень нужно заплакать, первый раз он сам очень хотел бы заплакать, как плакал раньше, как плачут маленькие. Но он не может. Словно все в нем окаменело. Словно все остановилось. Даже сердце не стучит.
— Талибджан, — сказала бабушка Джамиля. — Ты один мужчина. Иди к воротам, встречай людей. По обычаю. Слышишь, ты у нас один мужчина.
Талиб встал, постоял немного и пошел к калитке.
— Куда? — остановила его бабушка Джамиля. — Ты же большой. Тебе уже двенадцать лет. Надень камзол, опояшься платком…
Старуха кинулась к сундуку, сама достала почти новый широкий отцовский камзол.
Талиб встал у калитки, как должен стоять хозяин дома, когда собираются на похороны: в отцовском камзоле ниже колен, шелковый платок узлом завязан на поясе, тюбетейка старенькая, своя, в левой руке посох. Таков обычай.
Каждому приходившему он кланялся, приложив руку к животу — знак «салам», пожелание здоровья.
Всем он желал здоровья, разные люди приходили — вся улица Оружейников.
Первыми пришли самые близкие соседи, такие же бедняки, как и семья Талиба. Потом явился кондитер Кадыр-ака, живший на углу. Пришел настоятель квартальной мечети, всегда хмурый имам Карим, за ним медленно, закусив нижнюю толстую губу, шествовал Усман-бай — самый богатый человек на их улице, купец. Усман-бай — рослый, широкоплечий, в двух халатах, надетых один поверх другого; оба халата шелковые, переливающиеся.
Он остановился возле калитки, посмотрел на Талиба пристально и внимательно.
— Почему не плачешь? — спросил он, стараясь заглянуть мальчику в глаза. — Неужели у тебя сердца нет? Отец пропал, мать родная умерла, а ты не плачешь. Ты же маленький еще, не мужчина еще, ты должен плакать. Нехорошо.
Усман-бай приходился Талибу дальним родственником по отцу. В его словах была правда. Действительно, почему Талиб не плачет? Это действительно нехорошо, но мальчик не ответил.
— Заходите, Усман-ака. Пожалуйста! — Талиб еще раз поклонился. — Заходите.
Потом пришел единственный в Ташкенте родственник матери, человек, которого все звали Юсуп-неудачник или Юсуп-чахоточный. Юсуп-неудачник держал маленькую лавчонку возле мечети Шейхантаур. Он брал товары в кредит и продавал их с небольшой наценкой. Он был худенький, бледный, с большими, черными, всегда грустными глазами. Он дружил с отцом Талиба, часто бывал у них прежде и во время болезни матери, в последнее время, заходил каждый день. Дядя Юсуп знал много такого, чего не знали другие, у него были знакомые русские, потому что он служил когда-то кондуктором конки, а потом кондуктором трамвая.
— Ой, Талибджан, Талибджан, большой ты стал. Совсем большой. — Юсуп-ака коснулся плеча Талиба и, отвернувшись куда-то в сторону, добавил: — Иди во двор. Отдохни. Я постою.
Во дворе было много народу, а в комнате, где лежала мать, плечом к плечу стояли самые близкие друзья и соседи.
Талиб стоял в дверях позади всех, его не видели, и потому он услышал такой разговор.
— Плохо, когда нет родственников, — сказал кто-то. — Вот и получилось, что мальчишка теперь один.
— Усман-ака не оставит его. Дальняя родня, а все же… — возразил кто-то еще.
— Может, и отец скоро вернется: говорят, война кончается. Дай бог, вернется, — сказала бабушка Джамиля. — Отца никто не заменит.
— Может, и вернется, — возразил первый голос. — От всех письма есть, а Саттар не пишет. Неграмотные дали о себе знать, только Саттар, грамотный, молчит. Много наших померло на войне. Холодно там — пять месяцев снег идет. Там плов не поешь.
— Саттар упрямый очень был, — сказал Усман-бай. Его голос Талиб узнал сразу. — Из упрямства в Намангане женился, из упрямства со мной поссорился, из упрямства и там ему, конечно, плохо. И сын у него такой же упрямый… Прямо волчонок. Я ему говорю: почему не плачешь? А он молчит. Волчонок…
Талиб выскользнул из комнаты, не поднимая глаз, прошел по двору в кузницу, которая пустовала уже два года, закрыл дверь за собой и огляделся.
В отверстие под крышей светило солнце. Яркое пятно света лежало на давно остывшем горне, на больших кузнечных клещах, на молоте и молотках, на разных оправках и наборе зубил, на мотках проволоки, которую отец принес перед самой мобилизацией за день или за два дня. Талиб подергал веревку меха, и над горном поднялась стая седого пепла.