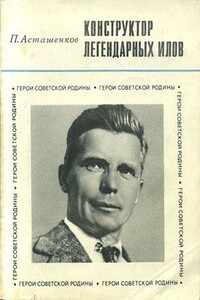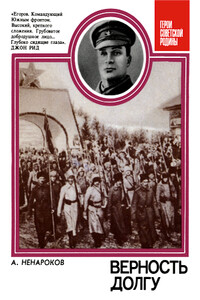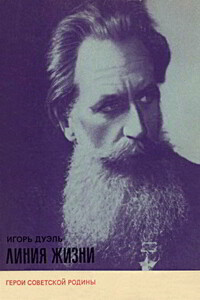Когда по дороге из Суража на Усвяты подъезжаешь к деревне Заполье, справа открывается большая поляна, словно предназначенная для массовых народных торжеств. Здесь 3 июля 1977 года в присутствии тысяч людей и состоялось открытие нового мемориала. Два взметнувшихся ввысь штыка как бы символизируют арку, за ней установлена монументальная плита со строгой надписью: «В память о беспримерном подвиге воинов Советской Армии и партизан, удерживавших с зимы 1941 по сентябрь 1942 года разрыв линии фронта между Велижем и Усвятами — Витебские (Суражские) ворота, через которые осуществлялась связь партизан и подпольщиков с Большой землей».
В этих местах мне довелось побывать во время Великой Отечественной войны, но тогда здесь все выглядело по-другому. Пытаюсь припомнить, где находилась та скромная деревянная арка, которую я увидел в начале лета 1942 года, и не могу. А может, в зоне ворот шириною в сорок километров была не одна такая арка? И мысли уносят меня в то суровое время.
Газете «Савецкая Беларусь», которая в годы войны выходила в Москве, нужна была живая постоянная связь с партизанами» с людьми нашего оккупированного фашистами края. А как наладить эту связь, как рассказать о героических делах партизан, если огненной стеной встала линия фронта?
В начале войны с Большой земли до партизанских шалашей и землянок в Белоруссии добирались только на самолетах. И когда встал вопрос, кому лететь, всем было ясно: конечно, мне, ведь я был много моложе своих друзей по редакции.
Ну что ж… Лететь-то лететь, но что, если придется прыгать с парашютом где-нибудь над лесной глухоманью? Смогу ли? Ни разу в жизни не раскрывался парашют у меня над головой…
Думы. Тревоги.
А беспокоился я напрасно. В Центральном штабе партизанского движения сказали, что есть на Витебщине ворота, через которые проходят туда, к партизанам, наши связные, машины, повозки с оружием и боеприпасами, с газетами и листовками. Защищают, держат те ворота 4-я ударная армия и партизаны. А главная сила у партизан — 1-я Белорусская партизанская бригада батьки Миная.
И не в самолет, а в видавший виды грузовик сел я и поехал, минуя города и деревни русские, чтобы встретиться с моим родным краем. От многих тех городов и деревень остались только названия, а сами они лежали в руинах.
Сквозь пыль и гарь пепелищ катила машина — все дальше от Москвы, все ближе к Витебщине. Вот и деревня Великий Бор. И здесь чернеют воронки и еще дымятся головешки. Почти ежедневно над деревней проносятся фашистские самолеты, поливая хаты пулеметным огнем. Разведали, видно, что в Великом Бору находятся Витебский обком партии, редакция газеты, областные советские учреждения…
— А где же ворота, о которых мне говорили? — спрашиваю я.
— Какие ворота? — недоумевает встретивший меня работник обкома.
— Ну, те самые, — говорю, — через которые и туда и обратно можно?
Смотрит на меня мой новый знакомый и улыбается:
— Неужто так скоро назад захотелось?
Я понимаю, что спросил неудачно, и обиженно молчу.
А он, как бы не замечая моей обиды, спокойно говорит:
— Есть такие ворота! Вот пойдешь со мной и увидишь…
Полевая дорога, гать, лесные тропы привели нас в большое село Пудоть. Под высокой аркой — партизанский часовой, рослый парень с автоматом.
— Ваши пропуска! — останавливает нас.
И пока часовой внимательно изучает пропуска, я смотрю на красный флаг над высокой аркой. Трепещет флаг на ветру, искрятся позолотой серп и молот в обрамлении золотых колосьев. А в сердце у меня трепещет радость: вражеский тыл, а тут и райком партии, и райисполком, и другие советские организации. И на страже всего этого — героическая партизанская бригада Миная.
На песчаном пригорке в окружении берез и лип стояла простая крестьянская хата, которую партизаны назвали штаб-квартирой батьки Миная. Над этой хатой тоже красный государственный стяг.
Здесь, в штаб-квартире, я впервые увидел и самого Миная Филипповича Шмырева. Очень похож на нашего народного поэта Якуба Коласа, подумал я.
Такой же спокойный, уравновешенный, рассудительный, такая же добрая, широкая улыбка в его мудрых глазах, такие же мягкие, сердечные интонации в голосе. Каким-то очень уж мирным с виду для тех суровых дней показался мне батька Минай. Шел я к нему и думал, что увижу исполина, а передо мной обыкновенный человек, тихий такой крестьянин. Беседую с ним, присматриваюсь, и первое впечатление мало-помалу стирается, тает. Стоило нам заговорить о горькой доле народа в оккупации, о кровавых преступлениях фашистов, как в добрых глазах Миная полыхнули молнии гнева. Молча набил табаком трубку, щелкнул зажигалкой, закурил; в трубке затрещало, потянулись облачка дыма. А он, седовласый, мрачной тучей стоял в своей черной кожанке: коренастый, широкоплечий, могучий. Нет, не тихий, не кроткий человек был передо мной. И вскоре я в этом убедился.
Минай Филиппович долго расспрашивал меня о жизни в Москве, интересовался, где Янка Купала, Якуб Колас, как они живут, что пишут…
И мне оставалось только удивляться: здесь, во вражеском тылу, человек говорит и чувствует себя совсем как дома. А впрочем, он и был дома. Только что на берегу тихой речки Усвячи видел я закопченное, полуразрушенное кирпичное строение. Еще совсем недавно это была картонная фабрика. Здесь делали картон для книжных переплетов и обувной промышленности. Директором этой фабрики был Минай Филиппович Шмырев — бывший конюх бывшего помещика Родзянки.