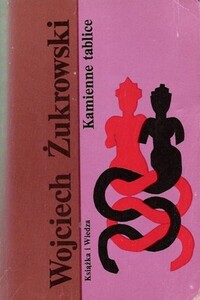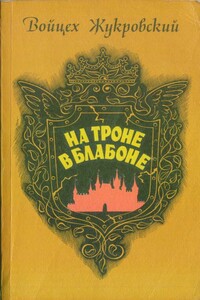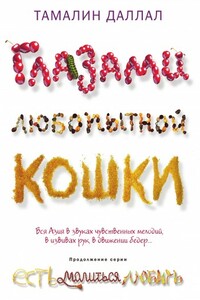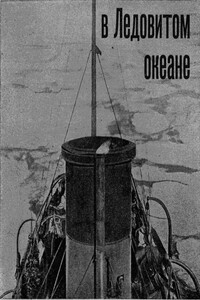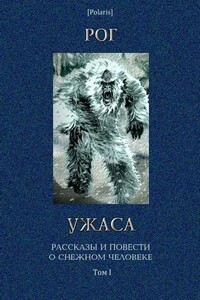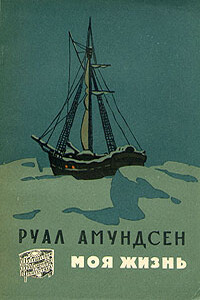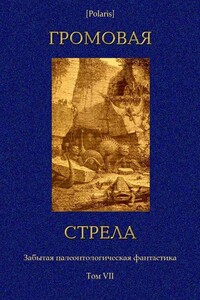Он красив, просто красив, если такое определение можно применить к мужчине. Несколько рябинок — следы перенесенной оспы, как на изваянии, тронутом временем, только подчеркивают обаяние выпуклого лба и рисунок полных губ. Расстегнутый белый воротничок бросает отблеск на смуглую шею. Я, наверное, более смугл, потому что не прячусь в тени, не боюсь солнца, которого он старательно избегает.
Он окончил Оксфордский университет, хорошо воспитан, а тонкая прослойка жира, сглаживающая линию подбородка, говорит о состоятельности и размеренном образе жизни. Однажды я назвал его моим гуру — наставником. Он усмехнулся и согласился с этим почетным титулом. Гуру — значит духовный руководитель, тот, кто знает, тот, кто владеет ключами истины.
Мои служебные обязанности состоят в том, чтобы перелистывать всю прессу, вылавливать сообщения о политических событиях, комментировать их и делать заметки. Но я беспечно переворачиваю первые страницы и погружаюсь в мелкие статейки, сообщения о происшествиях, письма читателей, раздел брачных объявлений. Здесь пульсирует подлинная жизнь Индии. Потом я прихожу к нему, излагаю все вычитанные из газет и услышанные истории, требуя комментариев и объяснений. Иногда я настаиваю на своем понимании события, тогда он с добродушной усмешкой позволяет тащить себя на место происшествия, разговаривает с очевидцами, потом возвращается и терпеливо мне все объясняет.
Я готов считать его другом, но он хочет сохранить свое превосходство гуру. Если бы вам удалось его увидеть, то он наверняка покорил бы вас своей милой улыбкой, дружелюбным сиянием больших влажных глаз и благоразумием. Вы бы сказали, что он настоящий джентльмен. Хотя у нас это немного значит… И однако, в нем внезапно открывается мне Азия — тот чужой, труднодоступный мир, который я подметил в маленьких, словно от легких ударов долота, рябинках на его лбу. Однажды я наливал ему крепкий вишневый чай. Мы уже достаточно давно знали друг друга, поэтому я попросил, чтобы он сам нарезал пирог и положил каждому из нас по куску.
— Не могу, — неожиданно серьезно сказал он, — я брамин. Мне нельзя брать в руки что-либо острое. Особенно для того, чтобы рассечь столь совершенную форму, как круг.
Конечно, через минуту он превратил все в шутку, но холодок отчуждения остался.
Как-то раз мы выбрались за город. Железнодорожный переезд был закрыт за полчаса до прихода поезда, как здесь установлено, и никакая сила не смогла бы заставить обходчика открыть тяжелые железные ворота… Поэтому мы вошли в хижину. Кровать с веревочной сеткой, голые дети. Здесь дымил маленький очаг, и терпкий запах тлеющего кизяка проникал всюду. Мы вынуждены были присесть на корточки. В запотевшем от холода глиняном жбане нам подали воду. Я пишу, хорошо понимая, что вы этого еще не видите. Подали воду? Кружек нет, просто из узкого горлышка жбана струя воды льется прямо на мою ладонь и с нее — в рот… Я пью жадно, расплескивая воду на рубашку, на тиковые брюки. Капли разбегаются по глинобитному полу, окутываясь пленкой красной пыли. Лучи солнца, проникающие сквозь неплотную кровлю из кукурузных стеблей, высушивают влагу.
На нас внимательно смотрят женщины с серебряными браслетами на босых ногах, закутанные в сари тусклого красного цвета. На каждый вопрос они услужливо отвечают: «Ациа, саб» — «Да, господин».
— Что тебе там понадобилось? — спросил меня Гуру, когда мы вышли. — Ведь наш визит их стеснил. Все они чувствовали себя неловко и держались неестественно. Не знаю, поймешь ли ты… Эти люди приветливы и радушны, но ты им чужой. Тебе надо угождать, чтобы не вызвать твоего недовольства. Нет, не думай, что они боятся тебя. Это скорее осторожность, проистекающая от их познаний в магии. Они боятся дурного глаза, дурного слова, заклятий, которых они не понимают. Ты произнесешь несколько слов на чужом языке, а их может постичь несчастье. Понимаешь, здесь все, чего ты коснешься взглядом, каменеет, принимает позу, старается понравиться тебе…
— А если бы я пришел в вашем дхоти[1], обмотанном вокруг бедер?
— Ты бы вызвал еще больше подозрений. «Это ведь белый саиб, чего же он хочет, входя к нам переодетым?» Конечно, тебя принимают в домах художников, артистов; они даже готовы считать тебя своим, но не думай, что это и есть Индия. Единственная возможность постичь ее — паломничество, там тебя никто не станет расспрашивать, никто не удивится тебе… Ты будешь, как каждый из нас здесь, на земле, одним из тех, кто ищет дорогу, прохожим. Но это еще успеется.
Он улыбнулся с легкой иронией. Я еще раз почувствовал, как меня вежливо, но решительно оттолкнули. «А все-таки я должен узнать вас, проникнуть в вашу жизнь», — подумал я с сердитым упрямством.
— Ну что ж, я помогу тебе в этом, — сказал он, словно услышав мой вызов, — Ты не умеешь носить своего лица, я все на нем могу прочитать…
Портняжная мастерская не отличается от десятка лавчонок, расположенных на этой узкой улочке. Передней стены нет, ее устанавливают только на ночь. А днем комната открыта взорам прохожих. В ней течет будничная жизнь, и повсюду разносится пряный аромат разогреваемой пищи. Когда мы подошли к мастерской, там на коврике, сшитом из лоскутков, сидел старый портной Хасан и, не торопясь, крутил ручку швейной машины. В работе ему помогала вся семья, не слишком большая, не слишком требовательная. Девять человек — так же как и у соседей. Все девять хотели есть, прожить положенное им время, обрести спасение. Поэтому они трудились в меру своих сил и умения. Конкуренция была большая, портные в округе расплодились, словно мыши. Даже почти столетняя бабка, которая никогда не могла донести до сморщенных, как сушеная фига, губ кружку воды, не расплескав половины, и не могла вдеть нитку в иголку даже при ярком свете, и та помогала — веером из пальмового листа она раздувала угли в жестяной банке, на которой стоял утюг. На полках громоздились картонки, набитые лентами, тесемками, мотками ниток и четками из пуговиц. Несколько кип пестрого кретона, намотанные на толстые доски, олицетворяли достаток. Девять человек составляли живописные группы, копошась в мастерской, как на открытой сцене. Они поучали друг друга и переругивались так искусно, что прохожие останавливались, а разносчики стихали, забывая расхваливать свой товар. Женщины склонились над сковородками. По мусульманскому обычаю, они были закутаны в грязновато-белые мешки, складками спадающие к щиколоткам. Только сквозь прорези в мешках, затянутые сеткой из фиолетовых нитей, гневно поблескивали глаза.