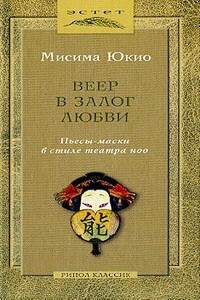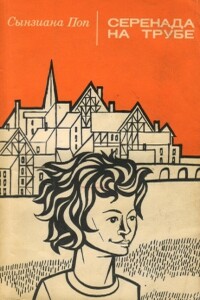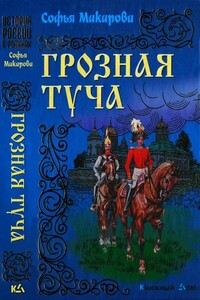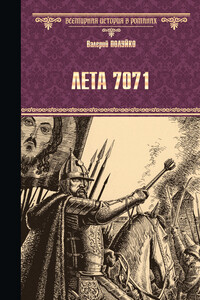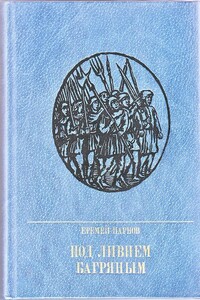I
Лошадь тяжело шла в гору, изредка вскидывая припорошенную рыжей пылью голову, и тогда Эли поглаживал ее по гибкой шее и шептал на ухо:
— Уже близко, Лайл.
Пустынное, с редкими селениями плоскогорье сменилось возвышающимися среди равнины утесами. Уходящее на покой солнце освещало их склоны.
Внизу, в глубокой синей тени, шумела река. Местами отвесные скалы сходились почти вплотную, казалось, что реку можно преодолеть одним прыжком, но дальше она разливалась во всю ширь.
Горную крутизну венчали два крепостных вала. Одни был терракотовым, другой — белокаменным, и каждый окружал отдельное поселение. Все выглядело в точности так, как рассказывал Эли отец, уже бывавший в гостях у раввина Бальтазара.
Предстоял самый трудный участок долгого пути. Эли торопил Лайл, чтобы засветло успеть в еврейское баррио[1]. Взмыленная лошадь фыркала, с морды слетали хлопья пены. Ее мучила жажда, хотя совсем недавно они останавливались в Тахо. Лайл споткнулась, всадник поднял ее поводьями и сказал вполголоса:
— Пожалуйста, Лайл, осталось совсем немного.
Дорога вилась лентой меж багровых скал. Эли пришлось спешиться. Скалы нависали прямо над головой. Иссеченные дождями, они, казалось, готовы были обрушиться на пришельца при первом же порыве ветра.
По телу лошади пробежала дрожь. Эли поднял голову и увидел над выщербленным краем скалы двух стервятников. Они парили, то снижая круги, то вновь взмывая в золотистое небо. Две другие птицы шумно сорвались с утеса, унося в когтях клочья шерсти. На островке сухой травы лежали растерзанные останки какого-то зверька. Через короткое время стервятники вновь рухнули на падаль.
— Не бойся, Лайл.
Дорога вела вниз. Эли ослабил поводья, и теперь лошадь ступала без принуждения, низко опустив голову. Но вот дорога снова круто пошла в гору и внезапно оборвалась, почти полностью засыпанная огромными валунами. Свободной оставалась лишь узкая тропинка вдоль обрыва. Эли опять спешился и принялся осторожно продвигаться, прижимаясь спиной к багровой стене. Намотав поводья на руку, он потянул Лайл за собой. Лошадь переставляла тонкие ноги уверенно, словно горная коза. Вскоре из-под осыпи вновь появилась дорога.
Их путь пролег среди нагромождения гладких, отполированных временем плит. На одной из них Эли успел прочесть: «Отсюда бросились в реку и здесь обрели покой в водах Тахо… поплатились жизнью за грешную любовь…» Имена стерлись, буквы были выбиты криво.
День уже клонился к закату, когда горная дорога кончилась и перед ними открылись оба крепостных вала. По одну сторону, окруженный кирпичной стеной, раскинулся город с церковью на холме и длинным высоким строением, отливающим золотом. Чуть дальше церкви высился изящный минарет мечети. Сама мечеть утопала в зелени садов. Улицы города были серыми, серыми казались и каменные двухэтажные дома.
По другую сторону реки белокаменная стена окружала маленькое местечко, над тесными улочками которого едва виден был низкий купол синагоги.
Эли вскочил в седло, Лайл мерной рысью понеслась по плоскому, как стол, полю. Изредка попадались деревца тамариска и кусты пустынника. Твердая сухая земля звенела под копытами. Лошадь заржала и сама перешла в галоп.
Эли потрепал ее по холке:
— Скоро добрые люди накормят и напоят тебя.
Они приблизились к крепостным стенам. От отца Эли знал, что существуют только одни, разрешенные королевским указом, городские ворота — для въезда в город и выезда из него. Как на кладбище.
Никем не задержанные, они проехали под аркой в баррио.
Стены отбрасывали длинные тени на узкую улочку. Домики, словно миниатюрные бастионы, смотрели на улицу слепыми темными окнами. Старые арабские названия улиц и арабские номера домов были стерты с каменных порталов. Массивные деревянные двери, спрятанные в ниши под маленькими козырьками, были полуоткрыты, и можно было разглядывать дворы, пурпурные от вьющихся роз и фиолетовые от глициний. На крюках, вбитых в стены патио, висели горшки с ромашкой и мятой. Изразцовые плитки крошечных водоемов и вымытые ступеньки сверкали чистотой. Дети, сидя на земле, играли в камешки. Женщины на лавках лущили горох или ощипывали кур.
Услышав цокот копыт, дети выбегали на улицу, а женщины выходили на порог и, заслонив рукой глаза от багряного зарева, провожали взглядом незнакомого всадника.
— Привет тебе, пришелец!
Эли обернулся в седле и помахал им рукой:
— Привет, дети баррио!
Они проводили его до самого конца улицы, где на углу стоял столб с отбитой капителью. На ней по-кастильски и еврейски было высечено: «Ибн Габироль»[2]. Улица носила имя короля еврейской поэзии. «Ливанский кедр, своей короной раздвигающий облака».
Лошадь приосанилась, изящно выгнула шею и звонко зацокала по брусчатке.
— Красавица ты моя! — Эли потрепал черную гриву.
В нос ударил смрад, преследовавший его во всех городах на юг от Пиренеев, в сторону Мадрида и Толедо. Вонь исходила из сточной канавы, тянувшейся по каменистому ложу улицы Ибн Габироля. По ночам люди выплескивали нечистоты из окон, окриком предупреждая прохожего.
В верхних кварталах воздух был немного чище, в нижних дело обстояло хуже — туда стекали все нечистоты. Неприятный запах смягчала вода с щелоком и мылом. То тут, то там возникали маленькие ручейки. Через них были перекинуты мостики, на которых сидели дети и котики.