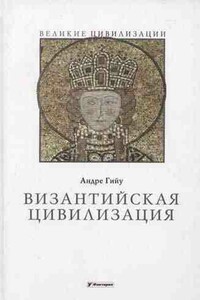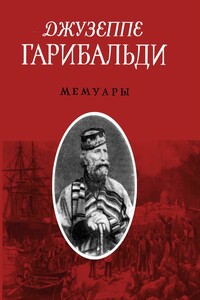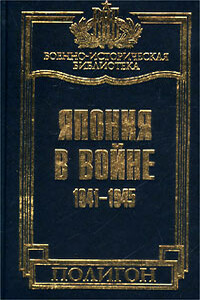АНАТОЛИЙ СМЕЛЯНСКИЙ
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
Из жизни русского театра второй половины ХХ века
От автора
За каждой книгой стоит предыстория, в результате которой она появляется на свет. Иногда предыстория эта остается личным делом автора, в других случаях ее следует изложить, чтобы прояснить сам замысел. Так вот, начну с признания. Книга, которую вы открыли, изначально сочинялась не для российского читателя. Она возникла в ответ на заказ одного известного лондонского издательства, которое хотело дополнить книгой о послевоенном советском театре книгу о русском театре, написанную в свое время Константином Рудницким и роскошно изданную за рубежом в начале ВО-х. Рудницкий, не дождавшись конца «перестройки», умер, и для меня было делом чести подхватить труд покойного друга. На этом и сошлись, радостно выпив бокал шампанского в забегаловке, расположенной в нижнем этаже Ермоловского театра и названной в духе перестроечной эйфории «Говори!».
Дешевая забегаловка по имени «Говори!» очень скоро превратилась в мексиканский ресторан «Ла Кантина». Не менее причудливые перемены стали происходить и с книгой, задуманной под брызги еще советского шампанского. Работа начиналась в одной исторической декорации, а завершалась в совершенно иной. Последняя точка была поставлена в те августовские дни 91-го года, когда мир замер в ожидании, а в Москве по телевидению крутили бесконечное «Лебединое озеро».
Респектабельные англичане, получив рукопись вскоре после путча, сильно призадумались. Тогда я впервые услы-шал слово, которое в прежних условиях для нас не существовало,— «зеНаЫШу», то есть «продаваемость». Все формулировалось сочувственно, но вполне прозаически: ну, сами посудите, кому нужна книга о театре рухнувшей страны? Издатели стали выжидать, а автор с тоскливым чувством наблюдал, как готовая и уже переведенная на английский рукопись исчезает без следа в потоке наплывавших друг на друга катастрофических событий, подрывавших сам замысел «перестроечной» книги. Единицей ее измерения был спектакль, и именно этот принцип оказался невыполнимым. Многие спектакли эпохи свободы, на которых должен был держаться «сюжет», оказались времянками. Каждая строчка, написанная год назад, нуждалась в комментарии, который в свою очередь уже через несколько недель требовал комментария к комментарию. Издатели предлагали мне что-то дописывать и прояснять, составлять синхронистические таблицы политических и театральных событий. И чем больше я объяснял и дописывал, тем с большей ясностью вырисовывалась картина провала. Надо было признать, что погоня за утраченным временем не удалась.
Прошло еще несколько лет, и случилось событие, которое подтолкнуло меня уже без всякого заказа вернуться к рукописи. Не только для англичан — для самого себя. На одном из занятий со студентами Школы-студии МХАТ я стал рассказывать им про «Современник», про судьбу Олега Ефремова и Анатолия Эфроса. И вдруг с какой-то твердой отчетливостью понял, что мои юные соотечественники знают о недавнем прошлом нашего театра ровно столько, сколько иностранцы. Всплыло пастернаковскос — «на кухне вымыты тарелки, никто не помнит ничего». Я понял, что необходимо вспомнить. В результате и возникла эта книга.
«Единицей измерения» на этот раз стали не спектакли, а режиссеры, призванные после Сталина. И не просто лучшие режиссеры или самые успешные режиссеры, но именно те, что внутренне оказались связаны с основополагающей для России XX века идеей «театра-дома» или, как любили у нас говорить, «театра-храма». В сущности, книга посвящена судьбе этой идеи, переживающей в конце XX века сильнейший кризис.
Основные герои книги — ушедшие и живые — были моими коллегами или даже друзьями. Если хотите, это книга о друзьях, которые стали историческими персонажами, то есть главами этой книги. Хотелось пройти по их живому следу, пока этот след окончательно не затерялся. Как сказали бы киношники, это — попытка отснять «уходящий пейзаж». Отсюда явная пристрастность автора, «любимая мысль» которого в книге не скрыта. «Уши», прямо скажем, торчат, и торчат они из Камергерского переулка. Здесь, в Художественном театре, проходили дни и годы, отсюда открывался общий пейзаж и «наблюдался театральный процесс». Несколько десятилетий мне довелось участвовать в этом процессе, плыть по течению и против, видеть изнутри, как создавались и рушились судьбы художников, как выбирались пути в искусстве. Проблема «художник и власть», которая теперь может выглядеть как вполне академическая, была проблемой выживания театра. Речь шла именно о выживании — вот почему сопротивление этого театра было таким стойким и вот почему этот театр занимал такое несоразмерно большое место в духовной жизни страны.
В середине 80-х произошел тектонический сдвиг, резко изменились «предлагаемые обстоятельства». Непредсказуемо печально завершились одни режиссерские судьбы, непредсказуемо печально расцвели иные. Русский театр пытается найти свое новое оправдание. Предлагаемые обстоятельства — в жизни, как в пьесе,— устанавливают лишь общие исторические рамки, в которых приходится действовать художнику. Последний выбор в конце концов остается за самим творцом.