Предлагаемые обстоятельства. Из жизни русского театра второй половины XX века - [5]
Через несколько лет пьесой этого фронтовика «Вечно живые» откроется «Современник», а еще через несколько лет по мотивам этой же пьесы Михаил Калатозов и Сергей Урусевский снимут фильм «Летят журавли» с Татьяной Самойловой, фильм, открывший Западу душу военной и послевоенной России.
Оазисы театральной культуры, сохранившиеся от 20—30-х годов, практически поглощались пустыней казенного репертуара, подчинялись его контексту. Социалистический реализм завершал эволюцию, начатую в 30-е годы. «От сдержанной монументальности форм, крупных и лаконичных, от доли аскетичности даже в комедии, где праздничны и обильны только свет, цвет, переливы чувств, подмостки же почти пусты, — к монументальности многословной, разукрашенной, теряющей свою суровую искренность и устойчивость»>8. Конец 40-х и начало 50-х стали порой муки, если не падения для неподдельных мастеров социалистического реализма. Так мучился Алексей Попов на бескрайних просторах Театра Советской Армии, пытаясь сладить с исходно фальшивым батальным полотном «Южного узла» А.Первенцева (1947) или патетической неправдой Вс.Вишневского («Незабываемый 1919-й», 1950). Так форсировал, надрывал присущее ему сценическое громкоголосие Николай Охлопков, ставя «Великие дни» Н.Вирты (1947). Ученик Мейерхольда порой распалял свою яркость до такой степе-ни, что язвительный товарищ по профессии бросил определение: «Взбесившийся ландрин». Осатаневшие цветные леденцы.
А Юрий Завадский, незабвенный принц Калаф, который ставит в 1947-м антиамериканский психологический лубок под названием «Русский вопрос»? А само соседство «Дяди Вани» Чехова с «Зеленой улицей» Сурова или «Заговором обреченных» Вирты на мхатовских подмостках? Цинизм проникал в тайник души, в сам источник театрального творчества.
Изменилось до неузнаваемости пространство спектаклей, их внешний облик. На смену ярчайшим сценографам, задававшим в 20-е годы тон мировой театральной живописи, пришли унылые копиисты параллельной реальности. Деградировало и искусство тех, кто формировались в 20-е годы и знали иные времена. Достаточно посмотреть, что произошло с искусством Альтмана, Рындина или Рабиновича.
Огонь старой техники и живой речи сохраняли в театральных «катакомбах». Уволенная из Художественного театра Мария Кнебель спасалась в незаметной норке Центрального детского театра: именно здесь сразу же после смерти Сталина начнется возрождение отечественной сцены, сюда придет ученик Кнебель и Алексея Попова Анатолий Эфрос, фронтовик-драматург Виктор Розов, молодой актер Олег Ефремов, будущий создатель «Современника».
В недрах относительно благополучного Вахтанговского театра, среди первоклассных юношей и превосходных девушек, коллекционированных Рубеном Симоновым, созревал талант Юрия Любимова. Он играл все, что положено и как положено, — Олега Кошевого в «Молодой гвардии» Александра Фадеева вперемежку с Моцартом в пьесе Пушкина «Моцарт и Сальери», но герой-любовник вахтанговской сцены был предназначен для другого исторического амплуа. Через несколько лет он предъявит Москве «Доброго человека из Сезуана» Брехта, а с ним вместе и новый Театр на Таганке.
История заготавливала впрок своих деятелей: в нужный момент они оказывались на будто предназначенном им месте. В Ленинграде в начале 50-х, еще при Сталине, появится режиссер Георгий Товстоногов. Его спектакли, так же как весь уклад позднее обновленного им Большого драматического театра, станут как бы живым мостом над мертвой пропастью послевоенных лет. Сценическое пространство вновь задышит, психологический реализм обновится изнутри, актеры причастятся к русской классике, в том числе «реакционному» Достоевскому, обретут ощущение театра-семьи, без которого русская театральная культура вырождается.
Да и то режиссерское поколение, которое, казалось, было дискредитировано и выжато под прессом, ожило. Многие вдруг вновь заговорили своими голосами, обнаружив тщательно скрываемое театральное прошлое. Николай Акимов развернул несколько блестящих композиций по русской классике — «Тени» Салтыкова-Щедрина (1952) и «Дело» Сухово-Ко былина (1954), в которых сталинская государственность получила свое объяснение через корневую русскую бюрократическую систему, враждебную «частному человеку». Мария Кнебель, обратившись к чеховскому «Иванову» (1954), попыталась через Чехова понять то, что случилось с русским интеллигентом в XX веке. Валентин Плучек, который начал свою актерскую жизнь, выпрыгнув из большой шляпной коробки в мейерхольдовском «Ревизоре», осуществил на сцене Театра Сатиры постановки «Бани» (1953) и «Клопа» Маяковского (1955), в которых предстала не только забытая сатира поэта революции, но и дух мейерхольдовской поэтики, скрытый в этих пьесах. Мейерхольд еще не был реабилитирован, но он уже существовал в воздухе новой сцены.
Николай Охлопков в 1954 году выступил с одним из первых послевоенных «Гамлетов». Неизбежная помпезность соединялась в этом спектакле с каким-то совсем новым, тревожным мотивом. Прозрение принца Датского действовало совершенно особым образом. Герой Шекспира у Евгения Самойлова был исполнен романтического пафоса. С осени 1956 года, когда Гамлета стал играть Михаил Козаков, советский принц впитал в себя интонации «рассерженного поколения». Подобно герою Джона Осборна, он «оглянулся во гневе» и стаи решать гамлетовские вопросы. В спектакле сильнее всего звучало открытие кровавого, лживого мира, прозрение человека, обнаружившего, что «подгнило что-то в датском королевстве». Мощные кованые ворота замка- тюрьмы, устроенные Вадимом Рындиным, мальчик в черном, появившийся из этих ворот и начавший вопрошать вывихнутый мир,— это осталось в памяти как самый простой и очевидный знак того, что история повернулась и что-то в нашей жизни произойдет.
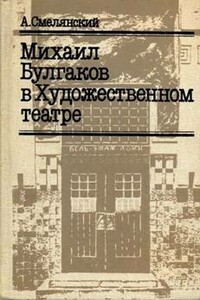
Михаил Булгаков говорил, что проза и драматургия для него как правая и левая рука пианиста. Но, если о прозе автора «Мастера и Маргариты» написано довольно много, то театральная его судьба освещена еще недостаточно. Книга А. М. Смелянского рассматривает историю таких пьес, как «Дни Турбиных», «Бег», «Мольер», инсценировки «Мертвых душ» и их постановки на сцене МХАТ. Завершается книга анализом «Театрального романа», как бы подводящего итог взаимоотношениям Булгакова и Художественного театра. Книга иллюстрирована.

Книга Андре Гийу, историка школы «Анналов», всесторонне рассматривает тысячелетнюю историю Византии — теократической империи, которая объединила наследие классической Античности и Востока. В книге описываются история византийского пространства и реальная жизнь людей в их повседневном существовании, со своими нуждами, соответствующими положению в обществе, формы власти и формы мышления, государственные учреждения и социальные структуры, экономика и разнообразные выражения культуры. Византийская церковь, с ее великолепной архитектурой, изысканной красотой внутреннего убранства, призванного вызывать трепет как осязаемый признак потустороннего мира, — объект особого внимания автора.Книга предназначена как для специалистов — преподавателей и студентов, так и для всех, кто увлекается историей, и историей средневекового мира в частности.

Впервые — Новый мир, 1928, № 9, с. 207–213. П. Е. Щеголев, всегда интересовавшийся творчеством и личностью великого русского писателя, посвятил ему, кроме данных воспоминаний, еще две статьи: "Популярность Толстого" (Вестник и Библиотека самообразования, 1904, № 4) и "Блондинка" в Ясной Поляне в 1910 году" (Былое, 1917, № 3 (25)), перепечатанную затем в его книге "Охранники и авантюристы" (М., 1930).Сборник избранных работ П. Е. Щеголева характеризует его исторические и литературные взгляды, общественную позицию.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В этой книге собраны ценнейшие научные данные об истории, политике, религии, науках, искусстве, сельском хозяйстве и ремеслах народов, живших на территории Среднего Востока (обозначение стран Ближнего Востока вместе с Ираном и Афганистаном). Вы получите полное и подробное представление о зарождении, развитии, расцвете и гибели могущественных цивилизаций шумеров, аккадян, амореев, халдеев, персов, македонян, парфян, арабов, тюрок, иудеев.

Книга раскрывает внутреннее содержание, характер действий вооруженных сил Японии на их пути от победы в Перл-Харборе до подписания акта о безоговорочной капитуляции на американском линкоре «Миссури» в Токийском заливе. Она представляет интерес для всех, кто интересуется историей войны на Тихом океане в 1941–1945 годах.

Капитальный труд посвящен анализу и обобщению деятельности Тыла Вооруженных Сил по всестороннему обеспечению боевых действий Советской Армии и Военно-Морского Флота в годы Великой Отечественной войны.Авторы формулируют уроки и выводы, которые наглядно показывают, что богатейший опыт организации и работы всех звеньев Тыла, накопленный в минувшей войне, не потерял свое значение в наше время.Книга рассчитана на офицеров и генералов Советской Армии и Военно-Морского Флота.При написании труда использованы материалы штаба Тыла Вооруженных Сил СССР, центральных управлений МО СССР, Института военной истории МО СССР, Военной академии тыла и транспорта, новые архивные документы, а также воспоминания участников Великой Отечественной войны.Книга содержит таблицы.