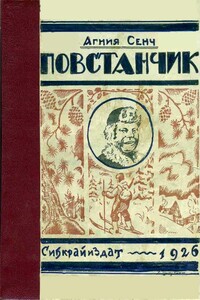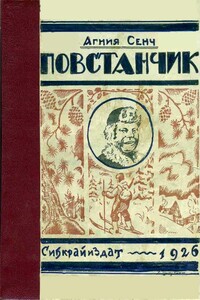I
Всю ноченьку проплакал Ларька. На утро еле голову от подушки оторвал.
Шутка ли в деле — брата Яшу в солдаты зовет Колчак, чтоб ему там в тартарары провалиться Колчаку этому самому, какой он там есть. Мать плачет, отец туча-тучей ходит, а дед покрякивает да одно свое твердит внуку Якову:
— Чё, милый сын, сделашь… Надо послужить, колды очередь пришла. На тем и свет стоит.
Чует Ларька, что не на том свет стоит, чтобы Яшунька под пулю шел, и бьется Ларька в рыданиях, жалея Яшуньку.
Крепко любил двенадцатилетний Ларька старшего брата. Отродясь не обижал его Яша, а все смехом да шуточкой.
— Ну, Ларьша, айда коней путать, — весело, бывало, скажет он, да по плечу ласково брата хлопнет, а тот и рад. Бороться начнут, — Яша нарочно младшему поддается С поля то ягод картуз целый Ларьке привезет, то стручьев гороховых.
Любимым делом Ларьки было ездить с Яшей на рыбалку. С дедом совсем не то, что с Яшей, Дед, плывя в лодке, все молитвы про себя поет да на Ларьку поварчивает, а Яша песенки развеселые поет, грести да править учит Ларьку. А то еще натянет сладких камышевых корней, да кормит ими Ларьку.
Ларька из тоненькой камышинки сделает дудочку и сидит, петушком молодым, в нее кукарекает, а кругом камыши зеленые, озеро сверкающее да чайки серебряные в голубом просторе чеканятся. Больно уж чаек да стены камышей любил Ларька. Вырос он у озер серебряных с пеной белоснежной на песочных берегах. Даже запах озера, немного рыбный, немного тинистый, немного смоляной от лодок рыбацких, любил он.
Ночью варят они с Яшей щербу из жирных карасей, о том да о сем калякая. Сменные сети, озером родным пахнущие, сушатся.
Весело было им с Яшей, что и говорить, а теперь… Сжало Ларькино горло слезами.
Встал парень, умылся, а на думке одно: сгибла бы война эта никчемушная, не взяли бы Яшуху из дому.
На дворе трое стоят шушукаются: Яшуха, картуз на лоб натянув, исподлобья выглядывает, да топориком по телеге постукивает; отец, в землю глядя, соломинку вертит в руках, а дед бородой да рубахой пестрядинной трясет, сердится: смолкли, увидев Ларьку, по сторонам заоглядывались.
Смекнул Ларька, что дело неладно и шмыгнул за малушку. Встал за угол и слушает. Чует его сердце, что дело Яшухи касается.
— Не для того я его на свет произвел, чтоб дать на окрошку искрошить, на поруганье отдать, — слышит Ларька голос отца.
— Не наш один. Ты не отдай да другой спрячь, и кто же на защиту нашу встанет? — ворчит дед.
— Защитники они. Вон Куроедова Ермила плетями задрали, а за что? Гимнастерку военную не отдал, когда одежу собирали. Нет им моего сына и весь сказ, — режет отец.
— А ежели спрячешь, — лиха наробишь, — возражает дед.
Все понял Ларька. Не вытерпел он, выскочил из-за угла и прямо к брату:
— Яшинька, бассенький, спрячься ради Христа, не ходи воевать. Вон Митюха Набоков навоевал, что без ноги да без носу домой заявился. Робить не может. Как в наклон чё поробит, — носом — ротом кровь кинется.
Зацыцкали, затопали на Ларьку дед с отцом.
— Ты чё, сдурел? Да кто из нас про это говорил?
Дед за чуб подергал — Не хлопай здря, пятненыш, не подводи под плети.
Я Ларька свое — Слышал я, не глухой, — а что кто подведет, так это еще не пытано.
— Еслив пикнешь кому, захлестну, — пригрозил дед.
— Не пикну.
День прошел, два — как ни в чем не бывало, только Глафира, мать Ларьки, с заплаканными глазами ходит да тяжко вздыхает. На третий день поздно вечером пришел сосед Андрон Набоков, угрюмый мужик, с сыном Васильем.
Долго шептались мужики, а мать что-то зашивала в мешки и плакала. Дед, кажись, снова спорил, так как Андрон возражал ему угрюмо:
— Нет, ты, дедушка, не говори этого. Эта война нам ни к чему. Извели у меня одного сына. — другого помешкают, не дам.
— Да и чё тут толковать, — вторил Гурьян Веткин. — Дело решеное. Не дадим сыновей увечить — и только. Где нам от этого польза-то? Окромя дранья мы ничего от них, от подлецов, не видали. Свобода, свобода, а дохнуть нечем. Казаков и при Николае мы видали.
— Чего там и говорить, — махнул рукой Андрон.
— Ну, а теперь, мать, не мешкая, собирай, чё надо, про случай.
Парни тоже шептались меж собой.
Ларька, с конями убираясь, главное прослушал, но по обрывкам речей понял, что дело идет об Яшухе с Васюхой.
Отец снова отослал Ларьку в огород наломать лошадям подсолнечных листьев, и когда Ларька вернулся из огорода, в избе, кроме матери, да деда, никого уже не было. Дед хрустел пальцами и о чем то тяжко думал. Мать схватила Ларьку и, крепко прижав его к своей груди, заколыхала его, как в люльке, рыдая и качаясь во все стороны.
— Соколики вы мои ясные. Детоньки мои сердешные. Да на то ли я вас, моих голубчиков сизеньких, ростила. Да схвати их в глотку всех и Колчаков этих, — при читала Глафира.
— Стой. мама. Где мужики?
— Ох, Ох. Не говори ты, мой батюшка.
— Мама. Да говори скореича, некогда, — рявкнул «соколик ясный».
— Нельзя, сынок, сказывать-то, не велели мужики. Ежели тебя кто спросит, — где Яков, ты одно говори, что по соль с городскими уехал.
Не почуявши ног своих, бросился Ларька из избы. Туда-сюда глянул, — нет, словно пропали мужики.
Поздно ночью вернулся отец, а Якова не было.