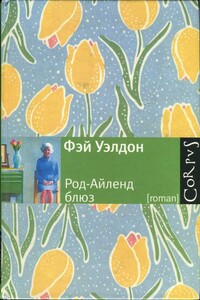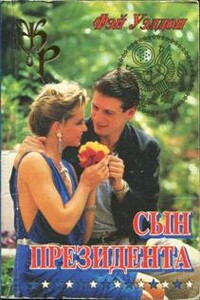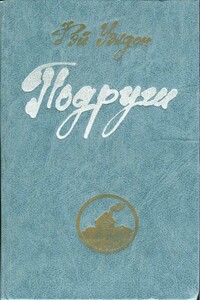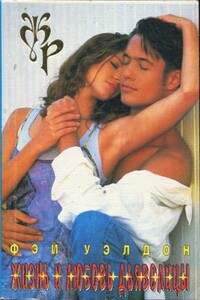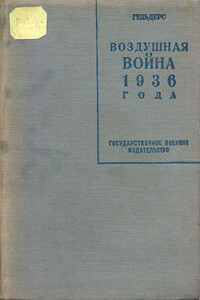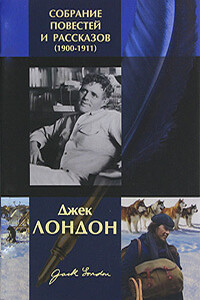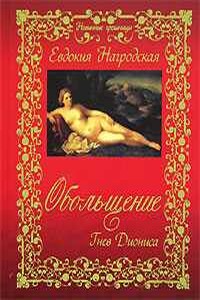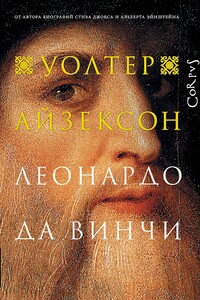— Я древняя старуха, София, и потому имею право говорить правду. — На удивление юный голосок моей бабушки летел, прыгая по волнам Атлантики. — Мне никто не указ, терять мне нечего, бояться некого, так что пощады не ждите. Мне восемьдесят пять лет, что я думаю, то и говорю, это моя привилегия. А если кому-то мои слова не по нраву, считайте, что я впала в старческое слабоумие.
Моя бабушка Фелисити всегда говорила всем правду, сострадание к ближним ее не очень-то останавливало, но спорить с ней не было сил, я слишком устала и чувствовала себя виноватой, и уж тем более бессмысленно было уточнять, что на самом деле ей не восемьдесят пять, а всего восемьдесят три года. Фелисити звонила мне из своего белого, обшитого вагонкой дома на зеленом пригорке в окрестностях Норвича, штат Коннектикут, дома, где провода к колонкам музыкального центра были заранее проложены под полом, где исполинских размеров холодильник был до отказа набит яркими, безобразными пакетами с едой быстрого приготовления, заманивавшей пониженным содержанием того, сего, пятого, десятого, а я выслушивала ее упреки в тесной квартирке кирпичного дома в Лондоне, в Сохо. Ее голос отзывался эхом в пустых, просторных, с паркетными полами комнатах дорогого, стильного, томящегося одиночеством дома, двери которого она не запирала, окна не занавешивала — их черные квадраты глядели в еще более густую черноту ночи, и кто поручится, что там не затаились убийцы с топором. Мой голос никаким эхом не отзывался здесь, в центре Лондона, комнатки маленькие, заставлены мебелью, на окнах решетки, плотные шторы лишь слегка приглушают шум, который устраивают по ночам голубые, когда выходят из своих голубых баров внизу и перемещаются в клубы для голубых же. Здесь я чувствую себя в куда большей безопасности, чем у Фелисити на ее зеленом пригорке среди стриженых газонов. В квартире подо мной трудится проститутка, она перехватит малейшее проявление сексуальной агрессии, случись ей вдруг прорваться в подъезд; а этажом выше работает дизайнер-график — беспощадная требовательность к себе, дисциплина и высокий профессионализм, которые, как мне хочется думать, просачиваются вниз ко мне.
По лондонским меркам я живу в модном, дорогом и престижном районе. До работы можно дойти пешком, и я это ценю, хоть и приходится прокладывать себе путь сквозь развеселые толпы зевак и извращенцев, а тугие попки охотниц и охотников за сексом вызывают такую же досаду, как необъятные зады глазеющих туристов. Вывести бы из них среднее арифметическое, превратить в нормальных, занятых нормальным человеческим трудом добропорядочных обывателей. Но тогда это все равно что жить в пригороде, а для человека моего склада пригород — это погибель.
Устала я потому, что только что вернулась с работы и было далеко за полночь. А виноватой чувствовала себя потому, что прошло уже две недели, как мне позвонила бабушкина глухая приятельница и ближайшая соседка Джой — ближайшая в том смысле, что их большие одинокие дома находятся в пределах слышимости друг от друга, — и прокричала в трубку, что у Фелисити, которая живет одна, случился инсульт и ее отвезли в больницу в Хартфорд. А я как раз кончала монтировать фильм. Я монтажер на киностудии, и в работе над фильмом наступает такой период, когда монтажер перестает принадлежать себе: он просто не имеет права захворать, сойти с ума, иметь прикованную к постели бабушку. Джой позвонила именно в такой момент. Монтажер должен неотлучно находиться в монтажной, должен — и все тут, пусть хоть мир рушится. То, что ты делаешь, не может сделать никто. “Завтра” — художественный фильм, задуман как концептуальный, совместное производство английской и американской студий, огромный бюджет, знаменитый режиссер (Гарри Красснер), вокруг вьются тучи рекламных агентов, устраиваются конференции, предварительные просмотры, а я отчаянно барахтаюсь, пытаясь в последние минуты слепить какое-то подобие эротики на куцем метраже пленки со сценой совокупления двух подростков, которую актеры играли чуть ли не с отвращением. И я не полетела сидеть у постели больной бабушки, я просто забыла о ней — вспомню, когда обстоятельства позволят. И вот бабушка снова ворвалась в мою жизнь, у нее сейчас вечер, а у меня глубокая ночь, но она никогда не считается с разницей во времени, будто ее и не существует.
Я приготовилась дать отпор. Иногда между мной и Фелисити встает призрак моей безумной матери и останавливает поток родственных чувств, эта мрачная фигура напоминает мне родительниц, которые вдруг возникают будто из-под земли на проезжей части улицы возле школы и заставляют недовольных водителей остановиться под визг тормозов, чтобы дети могли перейти на ту сторону.
В детстве мне снился один и тот же сон: в нем моя мама выступала именно в такой роли, только на плакате, который она держала в руке, значилось не “Дети”, а “Во всем виновата ты, Фелисити”. Но я-то знала, что если она повернет плакат другой стороной, там будет мое имя и я прочту “София, виновата ты”. Мне всегда удавалось заставить себя проснуться до того, как я увижу этот ужас на обратной стороне. Да, ребенком я умела подчинять себе свои сны. Они мне повиновались. Наверное, потому меня и считают хорошим монтажером: не в том ли смысл моей работы, чтобы сдерживать чужую фантазию? Почти каждую ночь я принимаю снотворное, оно не пускает ко мне мои сны. Довольно с меня и тех, что я вижу днем, иначе недолго сойти с ума.