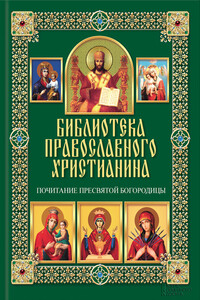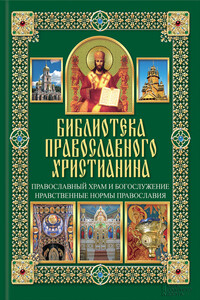После чумы – это разновидность вируса Ebola, который передавался через воздух или рукопожатие, как и обычная простуда, – после чумы жизнь стала другой. Более спокойной и непринужденной, более естественной. Суета прекратилась, автострады пустынны до самого Сакраменто, и наша многострадальная опустошенная планета вдруг снова предстала огромной и полной тайн. Поистине это было чудом, тем чудом, на которое так долго надеялись экологи; и хотя, разумеется, даже самые радикальные из них не подразумевали под этим собственной гибели, именно так все и произошло. Мне не хочется показаться бездушным, мои-то родители давно умерли, у меня не было ни жены, ни братьев; но я остался без друзей, сотрудников и соседей, как любой другой уцелевший. Выжили очень немногие, это уж точно. В Штатах, может быть, один на десять тысяч. Я уверен, что где-нибудь на Амазонке или в глубине Индонезии гибели избежали целые племена; в живых остались метеорологи, находившиеся на отдаленных станциях, пожарники, наблюдающие за лесами, пастухи и прочие. Но не стало президента и вице-президента, не стало правительства, Конгресса, глав администрации, не стало председателей правлений и исполнительных директоров, как не стало акционеров, служащих и заказчиков. Не стало телевидения. Не стало электричества и водопровода. И в обозримом будущем не предвиделось никаких обедов в ресторанчиках.
Честно говоря, я счастлив, что могу рассказывать вам обо всем, такое везение – чистая случайность, не более того. Видите ли, меня не было среди остальных, когда обрушилась беда – мне не пришлось сидеть в салоне самолета рядом с сочащимся гноем соседом, я не бродил по магазинам среди задыхающейся в кашле толпы, на мою долю не досталось ни концертов, ни спортивных вечеринок, ни переполненных ресторанов. Ближе всего я прикоснулся к людям, когда с бензоколонки в предгорьях Сьерры позвонил Даниель – моей подружке, с которой встречался порой. Мне хотелось послать ей поцелуй через расстояние; мои губы, наверное, коснулись пластмассовой телефонной трубки, покрытой грязью от дыхания десятков людей, прошедших здесь до меня. Однако это происходило за добрых две недели до того, как первая жертва занесла сюда вирус, возвращаясь из кратера Нгоронгоро с охоты с видеокамерой или из Малайи с конференции по экономическому развитию. Даниель, чей голос был наркотиком, от которого я пытался хотя бы на время отказаться, пообещала присоединиться ко мне на выходных, когда истекут шесть недель моего добровольного уединения в коттедже; но, к сожалению, она так и не сделала этого. Как не сделал и никто другой.
Я был совершенно изолирован в горах (в том-то все и дело), и впервые услышал дурные вести по радио. Стоял теплый, напоенный ароматами день в начале осени; солнце, как мячик, зацепилось за вершину пика Джеффри, виднеющуюся за окном. Я мыл посуду после обеда, когда приятный музыкальный голос прервал передачу «Полуденная классика», чтобы сообщить, что в пригородах Нью-Йорка у людей началась рвота желчью и кровотечение из глаз, а на улицах столицы множество упавших от слабости, Голос объявил, что власти полностью готовы справиться с этой, как они считают, незначительной вспышкой эпидемии свинки, так что людей просят не поддаваться панике. Но тут диктор как будто захлебнулся чем-то, а потом, прямо посередине следующей фразы, чихнул – оглушительный звук разнесся по радиоволнам, вырвавшись зловещим хлопком из десяти миллионов рупоров, – после чего радио смолкло. Кто-то поставил запись Ричарда Штрауса «Смерть и просветление»,[1] и весь день она крутилась снова и снова.
Я не мог позвонить по телефону – для этого мне пришлось бы пройти две с половиной мили до дороги, где я оставил машину, а затем проехать еще шесть миль до Приюта Рыбешек, чтобы только воспользоваться телефоном-автоматом в баре-ресторане-сувенирном магазине-универмаге-бензоколонке. Поэтому я крутил ручку радио то в одну, то в другую сторону, пытаясь поймать какие-нибудь новости. В горах радиоволны ловятся неравномерно, никогда не знаешь, попал на вещание Бейкерсфилда, Фресно, Сан Луи Обиспо или же Тихуаны; а в тот день я не мог поймать вообще ничего, кроме безликого шума и уже упомянутой музыкальной поэмы. Я был бессилен. Что должно было случиться – случилось, а омерзительные подробности я узнал лишь неделю спустя. В точности также я всегда узнавал обо всех несчастьях, скандалах, кризисах, государственных переворотах, тайфунах, войнах и перемириях, – о том, что держит в напряжении весь мир, пока я занят наблюдением за дятлами и сусликами. Это просто смешно. Здесь, в горах, великие события, казалось, значили не так уж много; жизнь была проще и непосредственнее, а самыми насущными заботами было накачать воды в бак и зажечь старую упрямую газовую плиту, не взорвав все вокруг. Так что я взялся за потрепанную книжку рассказов Джона Чивера, оставленную кем-то в коттедже, и совершенно забыл о новостях из Нью-Йорка и Вашингтона.
Позже, поняв, что не смогу вынести еще одну порцию Штрауса, не рискуя собственным здоровьем, я выключил радио, надел легкую куртку и пошел полюбоваться на осины, слегка тронутые дыханием ранней осени, что росли вдоль тропинки, ведущей к дороге. Солнце уже клонилось к западу, ночь притаилась в кустах и опавших листьях, за высокими деревьями тянулись длинные голубые тени. В воздухе чувствовался едва заметный холодок, предвестие зимы, и я думал, как хорошо было бы развести огонь в очаге, приготовить еду и сидеть весь вечер напролет с книжкой в одной руке и стаканом виски с ликером «Драмбуи» в другой. Лишь в девять или десять часов вечера я вспомнил о кровоточащих глазах и смертоносном покашливании, и хотя я был почти уверен, что это розыгрыш, или, может, одна из мимолетных террористических атак с использованием какого-нибудь OB без запаха и цвета (зарина или чего-то в этом роде) – все же я включил радио, с нетерпением ожидая новостей.