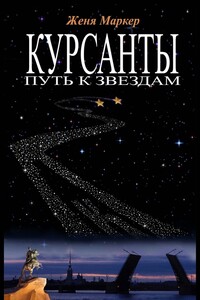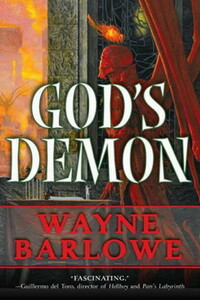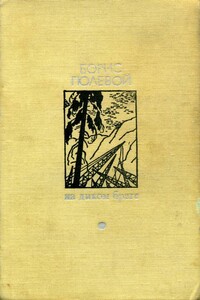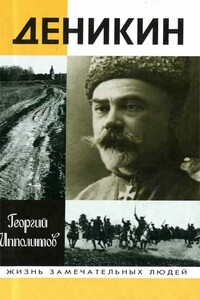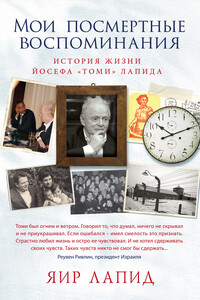Порядок слов
by Сергей Ильин
Дорогой друг!
Я получил твое письмо и попытаюсь ответить на содержащийся
в нем вопрос, однако первым делом давай условимся о временном распределении
ролей. Пусть я буду мэтр, а ты – пытливый юноша.
Должен сразу сказать, что обратился ты, в общем и целом,
не по адресу. Мне нечем поделиться по части “законов языка ирокезского”,
законов этих я толком не знаю и оттого тешу себя надеждой, что их и вовсе не
существует. Есть, разумеется, правила и установления касательно, скажем,
расстановки запятых или того, к какому роду относится слово “кофе”, но и они
мало-помалу меняются, а к тому же, даже заучив их, Гоголем все равно не
станешь.
Что же, в таком случае, позволяет тебе или мне, прочтя в
книжке одну-две страницы, закрыть ее навсегда и сказать: “Сей автор не в
ладах с языком и читать его я не стану”? Не только ведь гонор человека, тоже
кое-что написавшего, издавшего и даже услышавшего в виде отклика скорее
хвалы, чем хулы. Гонор требует для своего проявления публики, хотя бы и
малочисленной – сам перед собой ходить с плакатом “как обиженный прикащик”
вряд ли кто из нас станет. Так что же? На это могу ответить только одно:
чувство слова. А что это? – спросишь ты. И я отвечу: а шут его знает. Как
всякое порядочное чувство, это словесного определения не допускает, с
собой же и вступая в противоречие – как всякое порядочное чувство. Положение
тут примерно то же, что с чувством юмора или ощущением влюбленности:
определенно сказать о каждом из них можно только одно – “оно есть” или “его
нет”. Если оно, чувство слова то есть, имеется у пишущего, возникает
литература. Если оно имеется у читающего, возникает точка приложения
литературы. Если же его нет у того, либо у другого, вместе им не сойтись.
Нет, сойтись-то они, пожалуй, и сойдутся, но не в том месте, которое нам
интересно. Любой из них может, разумеется, навалять какую-нибудь “Корявую
плаху” или “Кровавую птаху”, они могут даже поменяться по ходу дела ролями,
но эти их отправления для нас интереса не представляют, мы с тобой говорим о
другом.
О чем бишь? О родной речи. Тут ты скажешь: “Да-а...
Тебе-то хорошо, твое дело перевод. Кто-то что-то написал, ты пришел на
готовенькое и переложил написанное по-нашему, если не по-своему. А ты вот
начни с ничего, с пустого места, да сооруди на нем нечто”. Правильно, мне
хорошо. Мне хорошо уже потому, что я возделываю свой сад, а в чужой не лезу.
Способности к сочинительству я от родителей и от Бога не получил, мое
“искусство” второго порядка, я вышиваю по готовой канве. В нем главное, чтобы
лицо не походило на основу, чтобы узелки наружу не торчали. Но, господин
сочинитель! То, что ты сочиняешь – фабула, персонажи и прочее – ты сочиняешь
в голове, а за бумагу берешься, лишь когда это все у тебя готово. Тут-то и
начинаются пресловутые “муки слова”. Я прихожу на готовенькое, однако с этого
пункта мы с тобой находимся практически в равных условиях, всей-то и разницы,
что ты свой полуфабрикат сделал сам, а я принес его из книжного магазина.
Судить же о результатах наших усилий будет читатель, настоящий то есть, много
чего повидавший. И ему, строго говоря, все равно кто с чего начинал, ему
подавай достойный текст, в котором слова не бодаются друг с другом. Он, дойдя
до оборота вроде “и отшатнулся назад” или “облокотился коленом о кровать”,
захлопывает книжку и, если он мать, велит дочери на книжку эту плюнуть, а
если отец – призывает к тому же и дочку, и жену, и жучку с муркой.
И я тебе даже больше скажу: мое положение кое в чем
потяжелей твоего. Ты ведь работаешь, как некогда говорилось, “от себя”, со
своим собственным материалом и волен поступать с ним как тебе
заблагорассудится. А я скован тем, что уже сделано настоящим автором. Есть в
нашем деле тот жупел, которого особенно боятся редактора – “переводческая
вольность”. Я, впрочем, ничего дурного о людях этой героической профессии
сказать не хочу. Из восьми, кажется, редакторов, с которыми мне довелось
водиться, только один поразил меня до глубины души, вернее, одна. Эта дама,
повстречав в переводе фразу “...когда Первый Герцог начал обустраивать парк”
(речь там шла об Англии XVII столетия), начертала на полях: “При чем тут
Солженицын?” И действительно, он-то тут при чем? Но семь-один – счет,
согласись, хороший. Так что на редакторов мне везло.
Везло-то везло, однако пресловутой “вольности” почти все
они боялись пуще, чем Аракчеев с Бенкендорфом. Между тем, именно в ней, в
балансировании на грани дозволенного (кем?) и состоит одна из прелестей моего
занятия. Такое иногда получаешь удовольствие... Вот тебе один из самых
вкусных примеров:
Оригинал: “...to borrow, and to borrow, and to borrow”.
(Перевожу дословно: “...одалживать,
одалживать и одалживать”)
Перевод: “...буду жить долгами, как жил его отец, по словам поэта”
В английском тексте – издевательская переделка восклицания
Макбета (“To-morrow, and to-morrow, and to-morrow...” – “Завтра, завтра,
завтра...”). В переводе, как сам понимаешь, переиначена строка из первой
главы “Онегина”. Любой редактор, сколь бы ни был он либерален, костьми бы
лег, но такого не допустил.