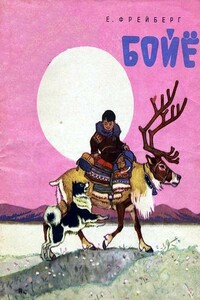…Колокольный гул тишины… Луна над каменными площадями… Стены качаются… Корчатся провалы слепых бойниц…
Бегу… За мною толпа безлюдных кафтанов несется… Вопль беззвучный пустых заломленных воротов… Черные секиры воздеты над безрукими рукавами… Кричу неслышно… И валится, вдруг, луна… Оборачивается вертящимся колесом огромной машины… Накрывает… Закручивает меня в грохот…
За несколько дней до этого сна мама привела меня к своему старому знакомому в его фотографический кабинет. Кабинет-квартира помещается в унылом двухэтажном доме на углу Кузнецкого моста и Петровки. Бородатый Наппельбаум долго пристраивает меня в необъятном кожаном кресле. Сопит у треноги под покрывалом. Я тоже соплю: мне стукнуло пять лет, и побасенка о птичке, которая вот–вот вылетит «отсюда», меня не воодушевляет — белых халатов откровенно боюсь. Недели через две, вручая маме фотографии, Наппельбаум торжественно произносит:
— Возьмите, Фанни Иосифовна, вашего итальянского мальчика!
— Итальянского? Он и без Италии довольно нашпигован.
Всмотритесь.
Мастер очень внимательно всматривается в меня. Немного погодя:
— Действительно… У ребенка… трагедийные глаза! Откуда такое?
— Все оттуда, маэстро, — от пестроты предков…
— Оказывается… мы такие, профессор?
— Такие, такие, Моисей Соломонович. Такие…
…Глаза мамы. Она держит меня на руках. Свечи ярко–ярко горят. В окнах ночь. В ночи луна. Под луною — близкоблизко – лицо брата Иосифа — Сифоньки. Люблю его до сердечных болей. До слез. Рвусь к нему — ко мне его не пускают: у меня скарлатина. Он тоже плющит нос о стекло и кричит. Кричу и я, счастливый, что вижу его: «Сиськала, блатик мой!» — это было в Мстиславле. Образ его, любовь к нему всю жизнь преследуют меня в долгих разлуках. Как жизнь беспощадно преследовала нас. Разводила постоянно и на много. На годы. Мы бились с судьбою. Но, как и полагается, судьба была сильнее…
Наконец, сегодня, уже глубокими стариками счастливо живя рядом совсем, — в маленьком средиземноморском городке в священной ауре двух с половиною тысчно летней оливы, — друг друга не понимаем…
В Мстиславль, на белорусской Могилевщине, я успел прибыть в маме тотчас после неких берлинских и московских её тревог. Было это уже после долгого голода. После тифа. И после того, когда входивший в фавор Николай Нилович Бурденко заставил власти летом ещё пригласить маму в Москву: в Басманном госпитале ей предстояло восстановить кафедру полевой хирургии, которую, — сорванная на месяц с фронта, — организовала ещё в 1916 году. Слабая — ноги не держат — дело все же сделала. И теперь позволила папе увезти брата и её со мною на его родину, где у моих мстиславльских деда и бабушки — колонистов — сохранилось свое хозяйство. Там мы все — не голодая – дождались встречи: всех со всеми. Но после моего рождения счастливого свидания и долгой безмятежого жития так и не получилось: папа безвыездно работал в Москве, мама наезжала оттуда на считаные дни, если мы заболевали. Через два года папа забрал брата и меня в Москву. Эти дни помню, будто случилось все вчера…
Отъезд: одетый, стою на стуле в зале дедова дома. Мне застегивают на шубе пуговки–помпоны… Резные маски на стенных зеркалах и в кессонах потолка — дедова работа — смеются!
Паутина резьбы облита солнечным медом… Пчелиным мёдом густо покрыта смеющаяся, довольная физиономия брата…
Долгая–долгая снежная дорога… Нескончаемый лес… Бег лошадей… Из–под их хвостов смешно вываливаются катышкикакашки… Станция… Зеленые вагоны, черный паровоз пыхтит и заливается криком!.. Ходосы — называется станция! Орша – Унеча называется дорога!.. И, сразу, Подмосковье — из бревен огромный дом, высоченная комната! Мама со свечою в руке обирает со стен комаров. В свечных бликах колышатся медовые доски потолка… Светлая летняя ночь… Плыву в нее… В сон…
…Я нарисовал собаку — дога. Такой бегает по саду. Все смотрят на рисунок. И сосед–художник смотрит. Бормочет что-то. Говорит маме: