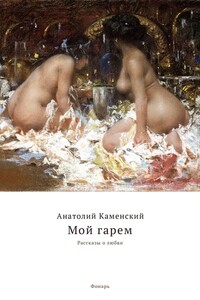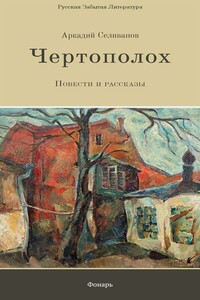Певицу пригласили в дом египтянина. Он был владельцем 5 % мировой продажи хлопка, за исключением Узбекистана и Таджикистана — пока ещё. На авеню Henri Martin (одна из дорогих улиц Парижа — вероятно, не только египтянину принадлежали проценты с мировых продаж)… Здесь по вечерам в освещённых окнах (певица очень любила вечерами смотреть на чужие окна) поблёскивали осколки другого мира: бронзовый угол рамы картины Пикассо и хрупкий хрусталик люстры, поручень лестницы, ведущей к спальне с Сезанном, и крыло самолёта-полки дизайнера Старка… Певица приехала на метро, заостряя разницу миров. В вагоне пьяный громко защищал свой мир, рассказывая о деревне, где у него куры, козы, козёл… «В деревне у меня всё есть!» У певицы ничего не было и в деревне.
Вестибюль дома походил на гостиничный. Вместо приёмной стойки стоял стол с хрустальными пепельницами. А певица была похожа на рок-певицу. На ней был комбинезон, как черничное варенье, прилипший к телу, на голове кожаная фуражка, ноги в сапожках до лодыжек, а на плечи была накинута куртка лётчика из кожи, сношенной лётчиком, пролетавшим, сносившим её. На почте днём ещё один пьяный спросил певицу, дыша кислым в лицо: «Харли Дэвидсон у тебя есть? К такой одежде нужен Харли Дэвидсон. Ха! У тебя, небось, и мопеда нет». У певицы и велосипеда не было.
Певица не знала, куда идти, и ждала, пока появится кто-нибудь, и курила, глядя на себя в зеркало. «Сейчас из девушки конца ХХ века я превращусь в куклу на самовар XIX столетия». Её пригласили петь русские цыганские песни. Атрибуты для самоварной куклы находились в большой сумке. Дверь лакированного красного дерева оказалась дверью лифта. Из него вышла чёрная женщина в розовой юбке и с босо-розовыми пятками. «Артисты? Третий этаж». И чёрная ушла на улицу, хлюпая шлёпанцами туда, где хлюпал дождик. Он был служебным, этот лифт, и на третьем этаже, куда он привёз певицу, его заполнили пирамидой стульев два служащих-югослава, показавших певице на дверь в узеньком коридоре. Она надавила на неё плечом и оказалась на кухне, где сидел уже один музыкант — скрипач, страдающий одышкой в так и не снятом плаще. Здесь была ещё дверь. Певица её открыла и увидела маленькую тётку в сиреневом банном пеньюаре. Певица ей представилась, сказав, что должна переодеться, и тётка в сиреневом предложила свою ванную. Певица закрыла дверь. Она уже очень быстро умела переодеваться и делала это автоматически. Достала громадную красную юбку из немнущейся ткани, подаренную когда-то цыганкой, маленькую даже не кофточку, а кусочек ткани на лямочках — как кастрированный верх сарафана, лаковые туфли на шнуровке, похожие на ботиночки гимназисток румяных, от мороза чуть пьяных, как пелось в песне, но певица иногда хулиганила и переделывала их в комсомолок. И тогда они были пьяны вдрызг. Шали она достала последними. Одну повязывала на талию, а другую накидывала на плечи или держала в руке, играя. Переодеваясь, она разглядывала ванную. В ванных женщины всегда оставляли и выставляли какие-то свои, особенные черты характера. Когда в ванной ничего не оставлялось, это тоже было характером. Мысль, что сиреневая тётка — уборщица, живущая в доме, отпала. Край ванны — тот, что у стены, где много места, — был заставлен флаконами духов: «Коко», «Шанель фёрст» ван Клифа, «Миль пату». За дверьми уже были слышны прибывающие музыканты, их недовольные возгласы — отсутствием гримёрной, вешалки для плащей, напитков перед работой, стульев, чтобы сесть. Певица сидела на закрытом унитазе и зашнуровывала туфли-ботинки. Она сняла фуражку и стала похожа на женщину-зулу. Головной убор служил не только частью туалета, но давал возможность спрятать под ним папильотки в волосах. Она сняла их — синие, жёлтые — расчесала волосы, и получилось много кудрей. Они сигнализировали, что певица — цыганка. И ещё красный бант-роза — сбоку, над ухом. И цепи — длинные, блестящие. А губы она всегда красила красным.
«Душка, ты там? Всё хорошо?» — закричали за дверью охрипшим голосом, громко застучав в дверь. Певица открыла. Этот парень, с которым она уже обнималась, мог не сомневаться, что всегда будет самым высоким и здоровым, и молодым, кроме певицы. Ещё он был единственный среди музыкантов, имеющий реальное отношение к русской музыке. Он сам был русского происхождения. А имя у него — домашнее, бабушкой данное, было вообще украинское: Хлопчик. Но французы-музыканты не могли произносить «хэ» и у них получалось «klopchik». «Klop»! Они не знали, что это значит. А певица была русской и знала. Поэтому «хэ» она произносила жёстко, как в слове, которое не печатали в Советском Союзе в книжках, но писали на заборах. Хлопчик бросил свой плащ в ванную комнату. Остальные музыканты толпились на кухне и в коридорчике, держали свои скрипки в руках. И не было места для кого-нибудь, чтобы присесть. Но выглядели все, как в киномассовке дипломатического корпуса, — в смокингах и бабочках. Хлопчик наклонился над переодевшейся в вечерний туалет сиреневой тёткой и попросил, чтобы она открыла дверь (он здесь, видимо, уже не раз был), ведущую в кабинет. Может, это был секретный кабинет египтянина. Сам он висел в раме на стене, а под ним — грамота или аттестация того, что он орденоносец Почётного легиона, и подпись Миттерана. Ещё искусственные фрукты в вазе лежали, под Миттераном. «А кто он?» — спросила певица Хлопчика. «О, душка, очень богат! У него вилла в Монте-Карло! Может быть, поедем туда, подожди! И в Швейцарии у него очень богатая квартира. Здесь, вообще, тоже, но тут, я думаю, так, для этой бабы, которая ему немножко даёт после обеда… Ха-ха, говно баба!» И Хлопчик поморщился, и очки его сползли на кончик носа. Очки и не замечались сразу на Хлопчике. А на других музыкантах очень замечались, потому что они были старенькие и маленькие. Они все стали занимать сидячие места в кабинете и, когда садились, то оттопыривали зад и похожи были на лягушек. Штанины у них слегка задирались, и были видны тонкие, безукоризненные носки, не собирающиеся в гармошку, не оголяющие волосатые ноги, а может, у них и волос уже не было на ногах. На головах у многих уже не было. Но были они очень холёными старичками, и те, что остались на кухне, и те, что в кабинет пришли поскорее. На низком столе перед мягким кожаным диваном лежало нечто вроде подноса, наполненного намагниченными шариками. Это для успокоения нервов. Надо было строить что-то из шариков, накатывая их один на другие, и нервы успокаивать, а когда гора уже получалась, шарики рассыпались и надо было не нервничать, закалять нервы и опять накатывать… Певицу бы это не успокоило. Так же, как и сидение в кабинете этом для неё не было успокоительным. Она хотела скорее петь. А старички-музыканты рассказывали про свои работы. Про то, где чем кормили, кто уже умер, кто ещё нет и где меньше всего играть пришлось, а заплатили хорошо, и уже в половине первого — хоп! — в машину и домой. В кабинете ещё висели лошади, помимо хозяина, — портреты их маслом — и трофеи лошадиные. «А почему этот вечер?» Певица подумала, что, может, в честь лошади, то есть, приза, ею выигранного. Она так по-русски разговаривала с Хлопчиком, будто и не русская вовсе. Надо было, наверное, спросить: «В честь чего этот вечер?» Но она думала, что Хлопчик не поймёт. То есть, она и не задумывалась. Автоматически плохо разговаривала по-русски: и французские слова вставляла, и руками помогала — как отщепенцы, называющие себя ещё «гражданами мира». А Хлопчик говорил по-русски немного как в церкви на Rue de Rue или как в дореволюционном трактире. «Это душка, после охоты у него обед. Да вот, поохотились где-то и прилетели», — и Хлопчик изобразил гитарой, которую уже достал из чехла и перенёс в кабинет, чтобы настроить, двустволку. А вообще он мог и узи или калашников изобразить, потому что работал для мэтра — не в том отделе, где для кухни всякие приборчики делают, а в том, где узи или что-то, похожее на узи, но, правда, французское. Продают и для себя оставляют — для защиты неизвестно от кого.