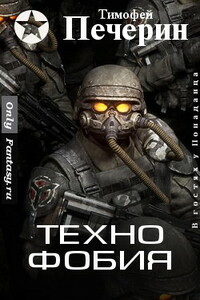Все тело у нее было мокрым. И липким. Липкие ляжки, ладони вдоль мокрых бедер, копчик был липко-мокрым. И в голове стучала песенка, будто детская считалка: «Двадцать пять лошадок рысью через мрак…» За окном на ночной улице завывали сирены сигнализаций запаркованных машин и запертых магазинов. Никто не вызывал полицию, в этом районе все жили с сиренами, которые сами выключались, отвыв свое, неожиданно. Иногда визжали сирены проезжающих машин «скорой помощи» — за кем-то ехали или кого-то уже везли. «Что же я наделала. Что же я наделала. Что же я наделала». Мокрая Женщина водила в темноте пальцем по переносице. Потом она садилась, но, будто кто-то удерживал ее, в голове опять пелась детская песенка-считалка: «Детка, спи, покуда джентльмены не пройдут…» Она вставала, шла к окну, и медный будильник на тумбе пугливо звякал.
Стена дома напротив была наэлектризованной — от невыключенной вывески недавно открывшегося магазина. По той стороне, откуда смотрела Женщина, — стена английского фарфора с бархатной копотью, будто от керосиновых ламп. Мокрая Женщина ложилась и курила. Потом было слышно, как издалека по улице движется зеленый грузовик, собирающий мусор. Арабы, африканцы и поляки в зеленом подкатывают зеленые мусорные баки к грузовику, и он поднимает их и вываливает в себя мусор. Когда он оказался совсем под окнами, Женщина услышала звон высыпаемых, падающих, летящих в грузовик двадцати четырех зеленых бутылочек из-под пива («Двадцать пять лошадок рысью через мрак…»), выкинутых в пакете со старыми тетрадками, ненужными бумажками и изношенной сумкой. Днем Критик выкинул. «Я понимаю, ты уже хочешь меня забывать. Отвыкать от меня», — сказал Критик уходя. «Лучше бы я и не узнавала», — подумала Женщина. Но, скорее всего, не подумала. Еще нет. «До встречи», — сказал Критик и пошел вниз по лестнице, не оглядываясь, потому что плохая примета — оглянуться.
Она уснула под утро. И утром на улице, уже наполненной шумом транспорта, перевозящего людей и товары, заорала вдруг женщина-стекольщик. «Есть чем порезаться!» — зазвенело в голове у мокрой еще Женщины. А может, это был обычный стекольщик, но с простуженным — уже порезанным — голосом.
Она встала. Ее трясло от недосыпания и от страха. От ужаса, что она здесь и даже чемодан лежит. Даже разобран уже. Она уже не уходит. Передумала. И еще она с ужасом вспоминала фразу из интервью с Эрнстом Юнгером в журнале «Транс Юроп Экспресс» о том, что мы не меняемся. Что люди не меняются на самом деле. Что каким вы были в пятнадцать лет, таким вы и останетесь. И она помнила, что, когда первый раз прочла интервью, эта фраза ее жутко смутила. Потому что и она так думала. И про себя тоже. Поэтому и хотела ее избежать, не останавливаться на ней, чтобы не думать и не ужасаться. Ведь это ужасно, такой, как в пятнадцать, быть и в тридцать два. Потому что в пятнадцать она все время хотела убежать. И убегала. Только тогда можно было вернуться. Потому что пятнадцать — это детство. А в детстве: семья, дом — из которых ее выгоняют, даже если и пугают тем, что выгонят. И в пятнадцать можно предать. Временно. И простят предательство. А может, и в пятнадцать нельзя было? Но чтобы этого не делать, надо было быть другой. А она уже была такой, как и сейчас: женщина-западня, женщина-предатель, женщина-ребенок.
Она застелила постель и, унося большое одеяло, остановилась у задника полки, к которой были приколоты какие-то глупые картонки-картинки, найденные на улице, и на них цветная ксерокопия фотографии, сделанной австрийским фотографом. На фотографии были она и Писатель. Они были как немцы в русском смысле — фашисты. Перед крахом еще. Уверенные и невозмутимые. Она и Писатель. Писатель и она. И Женщина подумала, что не имеет, наверное, права так говорить — я и Писатель. Потому что уже есть — она и Критик. Но все равно в голове у нее сочетание «я и Писатель» было сильнее, чем «я и Критик». Тверже. И правомочней. «Я и Критик» было каким-то полуфантастичным, мечтательно-детским. А «я и Писатель» было взрослым, реальным, жестким.
Она следила, стоя почти у самой стойки бара, куда, к кому проталкивается художник с только что подаренной ею книгой («Моему дорогому другу Вилли» или «Моему давнишнему другу…»). Он шел, обходя высоких девушек из СССР, приехавших покорять Запад, оказывающихся всегда в кольце бывших советских мужчин, не покоривших Запада. Высокие девушки хотели быть манекенщицами, но чаще ими украшали не обложки журналов, а вернисажи, как этот, в «Ля Куполь». Художник обходил французских ценителей его искусства — женщин за пятьдесят, с пигментными пятнами и бриллиантами на руках, в тюрбанах. Художник уже обнимал молодого человека в джинсовой белесой куртке. Он был как бы гибридом из хиппи 60-х, американским, высоким, худющим, с рыжеватым хвостиком, со слегка замученно-вытянутым лицом Иисуса, и в то же время очень интеллигентным мальчиком, с профессором-мамой и деканом-папой, с собакой и дачей и большим портретом дедушки в столовой. Художник показывал ему книгу, и они смотрели на нее, на автора книги. Потому что эта «мокрая Женщина» была писателем. Но двух писателей не может быть. Хотя Писатель считал, что это буржуазные пережитки.